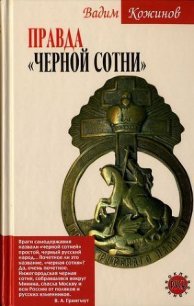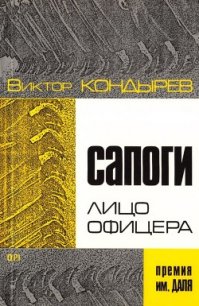Лицо войны (Современная орфография) - Белов Вадим (библиотека электронных книг .txt) 📗
Что делалось там потом, в этом ничтожном прикрытии отступающей армии, я не мог видеть, так как во-первых, они засели в окопы, а во-вторых, на поле посыпался целый дождь австрийской шрапнели…
Кровавое поле осталось позади, здесь были только бесконечные вереницы вагонов, переполненных стонущими людьми…
На соломе или уже на койках, кутаясь в шинели или одеяла, сидели или лежали эти страдальцы, такие одинаковые на вид, такие скромные после совершенных ими подвигов…
В классном вагоне, предназначенном для офицеров, тяжело раненых, к счастью, не было.
Один только казачий офицер, раненый в грудь, ходил безмолвный… как маятник взад и вперед по коридору, боясь согнуться и боязливо неся прямым, как палка, свое громадное, тяжелое тело…
У входа мне встретился молодой офицер. Он был в кителе, сплошь залитом кровью, уже запекшейся и почерневшей, и без сапог; их заменяли какие-то странные туфли из меха…
Голова его вся сплошь была словно покрыта белым плотным шлемом из бинтов и оставались свободными только левый глаз, полщеки и рот… Все остальное было под бинтами…
Я, конечно, его не узнал, но подпоручик (это был он) окликнул меня.
В тот же вечер мне рассказывал о нем доктор:
— Вы знаете, это редкий случай: пуля попала в переносицу на уровне левого глаза, пробила ее, выбила правый глаз и вышла из правого виска, и, представьте, он ни на одну минуту не потерял сознания… Солдаты хотели его унести — отказался!.. Потом сам четыре версты полз за нашими по такой погоде, какая была в тот день… помните?..
О, я помнил этот вечер, темный, августовский… Мне живо представился ночной мрак, вспугнутый заревом пожаров, пронизывающий мелкий дождик, отдаленный гул выстрелов и черные, молчаливые массы людей и лошадей, медленно ползущие по дороге.
Это было после боя, когда позади осталось отбитое у врага поле, усеянное убитыми и ранеными, и один из них, веселый подпоручик, с выбитым глазом и простреленным виском 4 версты полз, истекая кровью, «за своими».
Я содрогнулся…
На приступочке площадки вагона сидел одиноко забинтованный подпоручик. Около него собралась большая толпа, готовой всегда поглазеть публики; тут были здоровые солдаты, стрелочники и множество евреев и евреек, типичных и ярких, слушавших его, затаив дыхание…
Он не рассказывал, нет, он пел… Пел непонятные этой толпе прекрасные песни своей далекой Украйны, пел их не для толпы, а для себя, таким чудным, задушевным и тихим трогательным тенором, какого я никогда не подозревал у «веселого» подпоручика. И все слушали мелодичный, непонятный язык: я видел, как плакала еврейская девушка и безнадежно грустно качал головою бородатый мужчина в длинном сюртуке и круглой шапочке, а из единственного глаза подпоручика катились по темной щеке светлые капли слез.
Подпоручик повернулся, отыскал меня своим зрячим глазом, стараясь улыбнуться, словно извиняясь, произнес:
— Скучно, знаете… Что теперь — в отставку и шабаш… Я уж просил доктора, нельзя ли в полк обратно… Он говорит: «Куда же без глаза»… Вот я и распеваю…
Каменный дождь
С неба падали холодные крупные капли…
Над болотом, тянувшимся от подножья возвышенностей до далекой деревни, сливавшейся в одно темное пятно, с раннего утра тянулся белый сырой туман…
Рассвет болезненный, бледный, осенний холодный рассвет, застал нас на открытом плоскогорье, поросшем высохшей, притоптанной в грязь и отжившей травой. От самого края, спускавшегося довольно круто к громадному болотистому полю, тянулся бивуак, то есть, вернее, не бивуак, а просто походное расположение громадной серой массы пехоты, два дня бившейся за обладание этой позицией и теперь укрепившейся на срезанных словно гигантским ножом темных холмах, опрокинув и отогнав германский корпус за деревню к далекому синевшему туманной полосой лесу.
Ночь спали посменно. Пока одни дремали на холодном мокром песке глубоких окопов, другие, высунув головы поверх бруствера, с винтовками в руках, бодрствовали, внимательно глядя вперед и словно стараясь зорким немигающим взглядом прорвать черную холодную завесу ночи. Лежа на дне окопа, можно было курить пригнув голову к коленям и тщательно пряча мерцающий окурок между ладонями рук или в рукав шинели. С вечера попробовали поговорить, поделиться впечатлениями двух пережитых боев, но железная усталость свалила с ног, и все, кому было возможно, кто имел право отдохнуть два часа, — все заснули тяжелым, нервным и чутким сном, полным странных, необъяснимых и кошмарных сновидений.
Нервы, слишком напрягшиеся в течения 48 часов, теперь создавали фантастические картины, вплетали в них воспоминания подчас мелкие, казавшиеся незначительными, но теперь, быть может, именно внезапностью и несоответствием своим данным обстоятельствам, приобретающие страшные и щемящие душу размеры.
Я помню ясно, что перед рассветом этого ужасного дня, который оставил глубокий след, незаживающий рубец в моей памяти, мне снились пережитые ужасы, пережитые опасности минувших сражений и одновременно на темном фоне этих воспоминаний почему-то посетили меня, здесь, в открытом поле лицом к лицу с неприятелем, на дне холодного сырого окопа, образы людей, которые были так далеки, мелодии песен, которые были так неуместны здесь, и они, эти воспоминания, эта незваные пришельцы, давили усталый мозг хуже неумолкающего воя гранат и лязга взрывов.
Будили нас не сигналом, не барабаном, будила нас утренняя сырость, предрассветный ветерок и бледный румянец облаков, сгрудившихся тяжелыми массами на востоке.
Мы вставали со своего влажного, холодного ложа, стараясь отогнать виденья, посетившие нас под покровом ночи, мы удивлялись царившей вокруг тишине, когда в наших ушах, казалось, все еще грохотали быстрой смертоносной переговоркой пулеметы.
В окопе уже было почти светло. Темные фигуры солдат вырисовывались из ночного мрака, первые робкие лучи солнца, скрытого за облаками, засветились на лезвиях штыков и протянутых к неприятелю винтовок. Из походных кухонь принесли кипяток… В больших чайниках, обшитых войлоком, его спустили в окопы, и каждый спешил подставить кружку, котелок или маленький жестяной чайник, чтобы, получив хоть несколько глотков кипятку, наскоблить в него ножом казенного плиточного чаю и напиться, согреться, обжигая себе губы, но наслаждаясь невыразимо сладким ощущением.
За лесом в ложбинке, вдали от неприятеля и вне его обстрела, расположился обоз, лазаретные повозки и походные кухни, из труб которых тянулись тонкие струйки черного дыма. Перед лесом версты на две позади края плоскогорья чернели пушки батарей и на крыше чудом уцелевшего домика, наполовину, правда, разрушенного, устроился наблюдательный пункт и у задней стены — телефон.
После стакана чаю, выпитого вприкуску с куском черного хлеба, показавшегося вкуснее всякого пирожного, стало как-то веселее, теплее и спокойнее на душе, Понемногу выползали из окопов, стряхивали с себя прилипшую за ночь от лежанья на земле грязь и в бинокли, а у кого их не было и невооруженным глазом, всматривались пристально и нетерпеливо в силуэты далекой деревни и леса, куда отошел после вчерашнего боя неприятель.
Тихие разговоры, добродушная перебранка, смех и шутки, — все это возобновилось вновь, как и вчера, как третьего дня, как и все дни похода, словно не было за спиной десятков верст, пройденных пешком по ужасным дорогам, размякшим от дождей и разбитым снарядами, словно не было боев, не было опасностей…
С рассветом жизнь вернулась в свою прежнюю колею, колею мирного бивуака! Но все ждали и каждый таил в сердце это ожидание нового боя, новых неизбежных опасностей и подвигов…
Но вот проснулись и немцы…
Мы сперва видели только в сильные бинокли, как выползла из деревни черная длинная колонна людей, казавшаяся какой-то исполинской змеей, вытянувшей свое чешуйчатое тело по серо-зеленой глади поля, но вскоре и простым глазом можно было различить германскую пехоту, уходившую куда-то вправо, словно отступавшую, но на самом деле пытавшуюся выполнить коварный план глубокого обхода.