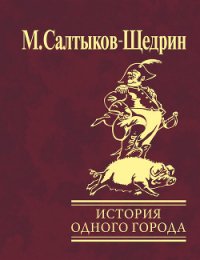В лабиринте замершего города - Близнюк Семен (книги онлайн полные версии бесплатно txt) 📗
И мелькают в памяти картинки босоногого детства, как короткие просветы в тёмных облаках. Сколько лет было ему, когда пошёл по хазяевам — пас чужих коров? Семь, наверное, не больше. Четверо детей в хате, он самый младший был, да и то послали зарабатывать на хлеб. А сколько лет минуло ему, когда начал рубить лес для «Сольвы»? Кажется, восемнадцать. Вот он поднимается раньше петухов, одевает серак и, прихватив торбинку, бежит за село, вскакивает в вагон узкоколейки. С лязгом тащится порожняк наверх, а он с хлопцами поёт. Ведь молодой, здоровый.
Дни были похожими, как в лесу деревья. И когда лесорубы садились пообедать, им уже не пелось — слышался печальный, неторопливый разговор. А разговор шёл один и тот же: и раньше здесь была нужда, и нынче — нужда. Вечная она, что ли, как эти горы?..
Шла лютая, голодная зима 1932 года.
Коммунисты организовали «голодный поход». Ранним утром толпа верховинцев вышла из Турьи Быстрой и направилась к Перечину. По дороге присоединялись безработные из Турьих Ремет, Симерок. Несли красные знамёна, лозунги: «Хлеба!», «Работы!», «Земли!». Дмитро шагал со всеми. Ветер кидал в лицо колючий снег, цепенели от холода руки. Но люди шли…
Перед Перечином, у моста через Уж, шествие голодающих преградили жандармы. Офицер-поручик крикнул:
— Это беспорядок! Разойдись!
Колонна продолжала двигаться вперёд.
— Взвод, в штыки! — скомандовал поручик. Дмитро понял — надо обхитрить жандармов, перекрывших мост. И крикнул товарищам:
— Наверное, лёд крепкий. Пойдём врассыпную прямо через Уж.
Жандармы били демонстрантов резиновыми дубинками. Дмитро схватил булыжник, но досталось и ему: привезли в село на санях.
Хозяин фирмы выгнал Пичкаря с работы. А в хате — ни хлеба, ни картофеля.
Организаторы похода приметили парня… В те дни на Свалявском лесохимическом заводе объявили стачку. Потухли реторты. Хозяин «Сольвы»—немец Шпиц—спешно набрал штрейкбрехеров. Стачечный комитет собрал в ответ надёжных людей. На берегу Латорицы, у заводских заборов, горели костры: здесь дневали и ночевали пикетчики, посменно охраняя проходные.
Впервые стал на боевой пост и Дмитрий Пичкарь.
Вот-вот жандарм хлестнёт по лицу. Он рванулся, чтобы отвести голову от удара, но опять тупая боль привела его в себя. Открыл глаза. Потолок качался. Сквозь узкое окно, затянутое решёткой, по-прежнему струилось майское утро. Оглядел камеру и, чтобы отвлечься, стал мысленно измерять её: от двери до окна — шагов семь — не больше, три шага будет в ширину. Заметил стол. Даже полка есть. Полотенце. Горько усмехнулся: «Все удобства для смертников». Перевёл взгляд на стенку у нар. Совсем низко было нацарапано: «Правда витези!» [6], «Аве, Мария» [7] «Виват СССР!», «Смерть фашистам!» чуть повыше — пятиконечная звезда. Икар посмотрел на опухшие пальцы. Расписаться бы: «Оттакар Вашал». А что? Хорошая идея — подтвердить «легенду»…
Но скрипнул засов на смотровом окошке. Мелькнуло лицо старшего надзирателя. Этот скрип раздавался время от времени: охрана была обязана внимательно следить за приговорёнными к казни. Откуда-то слева, приглушённый стенами, донёсся страшный крик.
Икар попытался опять привести в порядок свои мысли. Допрашивали не здесь — это он запомнил. Тащили по коридору, потом по двору, потом везли в машине. Там, где его допрашивали, было душно и темно. Только над зубоврачебным креслом, к которому пристёгивали узников, мерцала слабенькая лампочка. И ещё там были деревянные тиски… для ног. Ещё делали «маникюр» — загоняли под ногти раскалённые иглы. Это была «Печкарня» — здание гестапо, где пытали. Здесь — тюрьма. Камера-одиночка. Значит, Панкрац. Значит, все понятно — надзиратель его не стращал, когда сказал, что скоро казнят.
Снова открылась дверь.
«Пришли за мной? Но вроде бы рано. Разве уже после обеда?»
Надзиратель молча вытянулся у входа. В дверном проёме показалось узкое лицо.
«Тот самый лейтенант, который стрелял в меня на Михельской улице. А кто это с ним?»
Вместе с лейтенантом вошёл штатский — он тоже брал его на вилле. А тот, в тёмном плаще? Круглое красное лицо… Где же я его встречал?..»
Лейтенант раскрыл папку. Штатский сказал по-чешски:
— Нам все о вас известно, пан Вашал… Никакой вы не Вашал. Пани Ружена во всём призналась: вы готовили диверсию на вокзале. Иозеф арестован. Позывные у нас. Вот они: вы — «Рак». Выйдете на связь — гарантируем жизнь.
«Вот оно что: всё же им нужна моя рука, мой почерк для игры, — узник отвернулся: пусть считают, что переживает. — Черта, лысого им что-нибудь известно. Они нашли взрывчатку и придумали сами насчёт диверсии. Я этот тол в кровати впервые в жизни видел. Ружена — и та, знай она, что каждую ночь спит на взрывчатке, со страху бы умерла. „Рак“ — сигнал тревоги. Неужели они такие идиоты? Нет, просто им некогда, они очень спешат…»
— Который час? — приподнялся неожиданно Икар.
— Сколько тебе надо на размышление? Минуту, две? Времени ведь у тебя в обрез.
— И у вас тоже…
— Ты, свинья! — гестаповец в штатском выругался по-русски и со всего размаха ударил по раненой ноге. Падая, Вашел услыхал, как круглолицый, похожий на доктора и неуловимо чем-то ему знакомый, сказал по-немецки:
— Он будет молчать. Возможно, это русский, возможно, и чех. Они все одинаковы. В конце концов, «Рак» он или «Щука» — это сейчас не имеет большого значения, Закрывайте дело…
Как во сне, увидел у койки священника. И тут же сознание начало медленно меркнуть. Уловил раскаты грома, которые ворвались в камеру снаружи. «Весенний гром — это хорошо!.. Пойдут тёплые дожди», — последнее, что подумал он и все вокруг исчезло, словно в тумане…
II
…Сентябрь 1938-го. Пичкарь служил в Судетах, на границе…
В небе заунывно гудел самолёт. Потом рокот раздался поближе — казалось, над самой звонницей костёла святого Якуба, вонзившейся в тёмное небо. Двое пограничников, приехавших сюда, в Железный Брод, на воскресный день по увольнительной, остановились на площади у дверей «Белого петуха». Задрав головы, вслушивались.
— Опять «Хейнкель».
— Летают, как дома. Пойдём, ещё успеем наслушаться…
Из распахнутых окон ресторации на крохотную городскую площадь со средневековым памятником в сквере падали пятна света — жёлтые, как будто осенние листья. Нестройные голоса тянули немецкую песню.
— Может, не стоит заходить? Как думаешь, Дмитрий?
— Пойдём, я на них уже насмотрелся, посмотри и ты. Зашли. Сели в углу, возле скрипачей. Заказали пиво.
Зал был набит судетскими немцами. Крепкие затылки, квадратные плечи склонились над столиками, уставленными высокими кружками. Три стола по центру были сдвинуты. Нагловатые парни, сняв пиджаки и закатав рукава, постукивали кружками в такт запевале, тянувшему песню про Августина. И вдруг певец, вскочив, заорал:
— Мы, немцы, подчиняемся только нашим, немецким, законам, только голосу нашей, немецкой, крови! Так сказал наш Генлейн! [8] И каждого, кто прольёт хоть каплю арийской крови, вобьём в эту, нашу землю. Каждого! Слышите вы, чешские свиньи, каждого!
Маленький рыжий пограничник так сжал свою кружку, что хрустнули пальцы.
— Не горячись, Франта, — Дмитрий легко, без видимых усилий, разжал его пальцы.
— Не могу, понимаешь? — яростно прошептал Франта. — Не могу привыкнуть. Знаешь, почему бесятся? Из-за тех самых типов, которых наши подстрелили на границе…
Месяц назад группа гитлеровцев нарушила чехословацкую границу, двое немцев в перестрелке были убиты, и дикий вой, поднятый потом фашистской прессой, ясно свидетельствовал о том, ради чего затеяли эту провокацию.
— Взгляни, — Франта протянул газету, зажатую в деревянной держалке. — Кто-то уже обвёл карандашом…
6
Правда победит (чеш.).
7
Здравствуй, Мария (итал.).
8
Вождь судетских немцев.