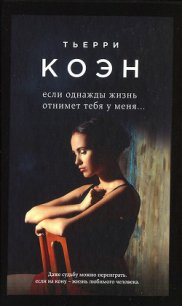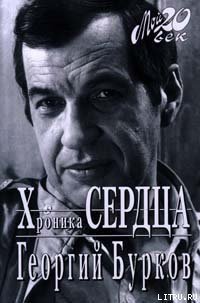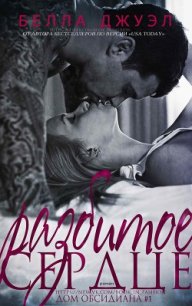Книга о разведчиках - Егоров Георгий Михайлович (читаем бесплатно книги полностью txt) 📗
И они «растворились», исчезли с обочины так же незаметно, как и появились на ней.
А спустя некоторое время при входе в ущелье и при выходе из него устанавливались на прямую наводку противотанковые пушки, распределялись сектора обстрела для станкачей, как муравьи, расползались по склонам автоматчики и разведчики.
Что было потом в ущелье, легко представить. Но меня в этом эпизоде больше всего удивило то, что разведчики добровольно отдали кому-то другому славу эффектного погрома целой вражеской колонны! Я бы, например, не стал поднимать полковую артиллерию, а обошелся бы силами одних разведчиков — хватило бы и гранат (только швыряй их сверху под гусеницы), и дисков автоматных хватило бы, чтобы крест-накрест исполосовать длинными очередями зажатую в узком месте колонну.
Так я думал тогда, так поступил бы тогда, будь я на месте Качаравы. Но сейчас, с годами, вижу, сколь мудро поступил Качарава.
Конечно, разведчики разогнали бы колонну, шуму понаделали бы много, и даже, может быть, знамя тоже захватили бы. И, конечно, долго бы потом ходили в героях. А фашисты отремонтировали бы перебитые гусеницы, сцепившиеся машины растащили бы, кое-как отремонтировали бы их, минометные расчеты собрали бы, немецкое командование усилило бы дозоры, и колонна, хотя значительно поредевшая, но к утру двинулась бы дальше.
После же того, что с этой колонной сделали артиллеристы и минометчики, она просто-напросто перестала существовать вообще. Видимо, только одиночки потом выходили из кустов на склонах ущелья. Все до одного танка, все пушки и минометы остались на месте, изуродованные прямыми попаданиями снарядов.
Во всей этой операции чувствовалась масштабность человека, возглавлявшего ее.
2
В своей фронтовой жизни я знал двух начальников разведки — капитана Сидорова под Сталинградом в 273-ей дивизии (которого потом и сменил Качарава) и капитана Калыгина на Первом Украинском. Поэтому сравнивать Качараву могу только с ними.
Все эти три начальника разведки абсолютно ни в чем не были похожи друг на друга. Капитан Сидоров — по теперешнему моему убеждению — в разведку попал случайно и так в ней и не прижился.
Второй мой начальник разведки капитан Калыгин был прирожденным разведчиком. Сейчас, когда за минувшие годы многое осмысленно, я все-таки не представляю себе разведку без таких разведчиков, как Иван Исаев, и таких командиров, как капитан Калыгин.
Я не был свидетелем подвига, за который присвоили бы звание Героя Советского Союза. Я не знаю, до какой степени надо быть храбрым, чтобы быть удостоенным такого звания. Но я уверен в одном: если Иван Исаев и капитан Калыгин за свою храбрость не получили этого высокого отличия, то, на мой взгляд, они его заслуживали.
Капитан Калыгин любил сам ходить на трудные операции. С каким азартом он готовился к ним! И этими операциями он не просто руководил с нашей передней линии, нет. Он ходил в неприятельские окопы, сам брал «языка». Он любил это делать своими руками! Был рад каждой такой удачной операции.
Лихой он был разведчик. Настоящий. Правда, немножко нетерпеливый для начальника разведки. Но все равно бы Иван Исаев сказал о нем: натура-альный разведчик…
Но я не помню случая, чтобы он когда-нибудь высказался о действиях всего полка — дескать, вот здесь бы обойти потому, что по разведданным здесь есть такая возможность, а вот сюда бы ударить, а вот эту батарею, например, подавить нашей артиллерией не до наступления, а лишь в самый разгар, когда фрицы уже не успеют подкрепить ее, и вот тогда, мол, с этих позиций полку откроется то-то и то-то… Не помню я такого за ним. Он остался храбрым, лихим разведчиком, за что мы его и любили. Больше чем любили — мы его боготворили…
Качарава тоже рожден был не для разведки — во всяком случае он так утверждал. Он рожден был строителем, архитектором. А может, даже художником — я видел у него дома вполне профессиональные пейзажи, писанные маслом. Перед этими пейзажами можно подолгу стоять и смотреть на них. Просто, как смотрят на бегущую воду с берега. При этом ты чувствуешь, будто ты на самом деле стоишь на поляне, заросшей цветами, и тебе в лицо дует от омута свежим ветром, а с дальних полей — запахами чабреца и мяты. И вдруг ты вздрагиваешь: неужели в этого человека, который способен видеть такие красоты в обыденном и привычном и умеющего перенести все это на холст, тридцать с лишним лет назад стреляли прямой наводкой из танка? В него стреляли, а он шел спокойно, не оглядываясь, пули цокали рядом, была пробита планшетка, а он и после этого шел, не прибавляя шага… И не у него — у меня сейчас, через три десятилетия, при мысли об этом по спине пробегают мурашки… А он в это время доказывает мне, что рожден был, дескать, не для разведки, что попал в нее случайно, а если, мол, откровенно — по «блату», по-свойски, используя родственные связи…
Ну, то, что по-свойски, «по блату» он попал в разведку — в этом у меня сомнения не было. Но то, что он говорит: «Попал в разведку случайно» — вот тут уж я ему не поверил.
Кто знает, как бы сложилась судьба у этого человека, если бы не стечение некоторых обстоятельств!
И я нисколько не удивился, когда узнал, что еще в студенчестве у Павла Качаравы «прорезались», так сказать, молочные зубки разведчика…
А случилось это так.
3
В ту историческую ночь с 21-го на 22-е июня 1941 года Павел не спал — он заканчивал последние чертежи к дипломному проекту, который должен был защищать в понедельник, 23 июня. (Кстати, дипломной работой у него был проект кинотеатра с трапециевидным залом, которые принято строить сейчас, много лет спустя после войны.) К утру эти последние чертежи были выполнены. Павел разогнулся, оторвавшись от стола, вздохнул, посмотрел в окно на залитую ярким солнцем Москву. И тут в дверь комнаты постучал комендант студенческого общежития.
— Война началась, — сказал он как-то растерянно. Потоптался у порога. И глядя куда-то в пространство, пробормотал: — Вот таким образом… — Развел руками и ушел из комнаты, забыв прикрыть за собой дверь.
Все общежитие высыпало в коридоры. К радиорепродукторам. Жадно смотрели в их черные картонные диски. Но оттуда гремели марши. Марши, которые потом неслись в эти первые дни войны на всю страну. В эти первые часы войны все ждали ответа на множество вопросов, ибо у каждого жизнь поворачивалась совсем по-другому, чем планировалось еще вчера. А как? Как по-другому? И не только о своей личной судьбе беспокоился каждый в это первое военное утро. Хотелось знать, сколько немецких дивизий уже разгромила Красная Армия за первые часы войны? Будут ли государственные экзамены или сразу всем идти на фронт? Личная судьба уже переставала быть личной. Все сугубо личное было забыто — отрезано, как будто оно сразу стало чужим, ненужным. И вот тут, из этих первых военных минут Павлу на всю жизнь запомнилась очередь… в кассу — был день получения стипендии. «Война ведь! Война, — думал он, потрясенный, — над родиной нависла смертельная… а может, не смертельная? Может, как на Халхин-Голе! Может, врежут им — больше они не сунутся… И все равно: такой день и — деньги!.. Кощунство!» Так думал он, шагая в военкомат. Он и не подозревал, что самому ему суждено еще много-много раз расписываться в ведомости на получение зарплаты — без нее ведь, без зарплаты, и месяца не проживешь в любое время. Он не собирался и одного дня быть вне армии. За этим и шагал в военкомат. Да разве он один — пол-института шагали туда. Но в военкомате с ними и разговаривать не стали.
— Вот получите дипломы, тогда приходите. Даже можете не приходить, сами позовем. Диплом давайте.
А тут было не до диплома. Каждый день приносил все большую неразбериху — ничего нельзя было понять в их институте. Ежедневно кто-нибудь из преподавателей появлялся в военной форме. Появлялся и… исчезал. До конца войны. А кто и совсем навсегда. Студентами, выпускниками заниматься было некому да и некогда. Началась мобилизация людей на рытье окопов и противотанковых рвов под Москвой.