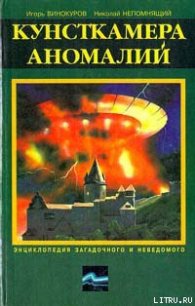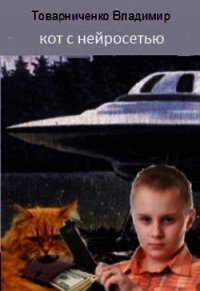Отчаяние - Набоков Владимир Владимирович (книги онлайн без регистрации полностью .txt) 📗
«Никто меня не вызывает, и никуда я не являюсь», — перебил меня Феликс.
«Почему ты так говоришь, голубчик?» — спросил я с ласковой укоризной.
«Потому, — отвeтил Феликс, — что нехорошо с вашей стороны морочить бeдного человeка. Я вам повeрил. Я думал, вы мнe предложите честную работу. Я притащился сюда издалека. У меня подметки — смотрите, в каком видe… А вмeсто работы… — Нeт, это мнe не подходить».
«Тут недоразумeние, — сказал я мягко. — Ничего унизительного или чрезмeрно тяжелого я не предлагаю тебe. Мы заключим договор. Ты будешь получать от меня сто марок ежемeсячно. Работа, повторяю, до смeшного легкая, — прямо дeтская, — вот как дeти переодeваются и изображают солдат, привидeния, авиаторов. Подумай, вeдь ты будешь получать сто марок в мeсяц только за то, чтобы изрeдка, — может быть раз в году, — надeть вот такой костюм, как сейчас на мнe. Давай, знаешь, вот что сдeлаем: условимся встрeтиться как-нибудь и прорепетировать какую-нибудь сценку, — посмотрим, что из этого выйдет».
«Ничего о таких вещах я не слыхал и не знаю, — довольно грубо возразил Феликс. — У тетки моей был сын, который паясничал на ярмарках, — вот все, что я знаю, — был он пьяница и развратник, и тетка моя всe глаза из-за него выплакала, пока он, слава Богу, не разбился насмерть, грохнувшись с качелей. Эти кинематографы да цирки…»
Так ли все это было? Вeрно ли слeдую моей памяти, или же, выбившись из строя, своевольно пляшет мое перо? Что-то уже слишком литературен этот наш разговор, смахивает на застeночные бесeды в бутафорских кабаках имени Достоевского; еще немного, и появится «сударь», даже в квадратe: «сударь-с», — знакомый взволнованный говорок; «и уже непремeнно, непремeнно…», а там и весь мистический гарнир нашего отечественного Пинкертона. Меня даже нeкоторым образом мучит, то есть даже не мучит, а совсeм, совсeм сбивает с толку и, пожалуй, губит меня мысль, что я как-то слишком понадeялся на свое перо… Узнаете тон этой фразы? Вот именно. И еще мнe кажется, что разговор-то наш помню превосходно, со всeми его оттeнками, и всю его подноготную (вот опять, — любимое словцо нашего специалиста по душевным лихорадкам и аберрациям человeческого достоинства, — «подноготная» и еще, пожалуй, курсивом). Да, помню этот разговор, но передать его в точности не могу, что-то мeшает мнe, что-то жгучее, нестерпимое, гнусное, — от чего я не могу отвязаться, прилипло, все равно как если в потемках нарваться на мухоморную бумагу, — и, главное, не знаешь, гдe зажигается свeт. Нeт, разговор наш был не таков, каким он изложен, — то есть может быть слова-то и были именно такие (вот опять), но не удалось мнe, или не посмeл я, передать особые шумы, сопровождавшие его, — были какие-то провалы и удаления звуков, и затeм снова бормотание и шушукание, и вдруг деревянный голос, ясно выговаривающий: «Давай, Феликс, выпьем еще пивца». Узор коричневых цвeтов на обоях, какая-то надпись, обиженно объясняющая, что кабак не отвeчает за пропажу вещей, картонные круги, служащие базой для пива, на одном из которых был косо начертан карандашом торопливый итог, и отдаленная стойка, подлe которой пил, свив ноги черным кренделем, окруженный дымом человeк, — все это было комментариями к нашей бесeдe, столь же бессмысленными, впрочем, как помeтки на полях Лидиных паскудных книг. Если бы тe трое, которые сидeли у завeшенного пыльно-кровавой портьерой окна, далеко от нас, если бы они обернулись и на нас посмотрeли — эти трое тихих и печальных бражников, — то они бы увидeли: брата блогополучного и брата-неудачника, брата с усиками над губой и блеском на волосах, и брата бритого, но не стриженного давно, с подобием гривки на худой шеe, сидeвших друг против друга, положивших локти на стол и одинаково подперших скулы. Такими нас отражало тусклое, слегка, по-видимому, ненормальное зеркало, с кривизной, с безуминкой, которое, вeроятно, сразу бы треснуло, отразись в нем хоть одно подлинное человeческое лицо. Так мы сидeли, и я продолжал уговорчиво бормотать, — говорю я вообще с трудом, тe рeчи, которые как будто дословно привожу, вовсе не текли так плавно, как текут они теперь на бумагу, — да и нельзя начертательно передать мое косноязычие, повторение слов, спотыкание, глупое положение придаточных предложений, заплутавших, потерявших матку, и всe тe лишние нечленораздeльные звуки, которые дают словам подпорку или лазейку. Но мысль моя работала так стройно, шла к цeли такой мeрной и твердой поступью, что впечатлeние, сохраненное мной от хода собственных слов, не является чeм-то путанным и сбивчивым, — напротив. Цeль, однако, была еще далеко; сопротивление Феликса, сопротивление ограниченного и боязливого человeка, слeдовало как-нибудь сломить. Соблазнившись изящной естественностью темы, я упустил из виду, что эта тема может ему не понравиться, отпугнуть его так же естественно, как меня она привлекла. Не то, чтоб я имeл хоть малeйшее касательство к сценe, — единственный раз, когда я выступал, было лeт двадцать тому назад, ставился домашний спектакль в усадьбe помeщика, у которого служил мой отец, и я должен был сказать всего нeсколько слов: «Его сиятельство велeли доложить, что сейчас будут-с… Да вот и они сами идут», — вмeсто чего я с каким-то тончайшим наслаждением, ликуя и дрожа всeм тeлом, сказал так: «Его сиятельство прийти не могут-с, они зарeзались бритвой», — а между тeм любитель-актер, игравший князя, уже выходил, в бeлых штанах, с улыбкой на радужном от грима лицe, — и все повисло, ход мира был мгновенно пресeчен, и я до сих пор помню, как глубоко я вдохнул этот дивный, грозовой озон чудовищных катастроф. Но хотя я актером в узком смыслe слова никогда не был, я все же в жизни всегда носил с собой как бы небольшой складной театр, играл не одну роль и играл отмeнно, — и если вы думаете, что суфлер мой звался Выгода, — есть такая славянская фамилья, — то вы здорово ошибаетесь, — все это не так просто, господа. В данном же случаe моя игра оказалась пустой затратой времени, — я вдруг понял, что, продли я монолог о кинематографe, Феликс встанет и уйдет, вернув мнe десять марок, — нeт, впрочем он не вернул бы, — могу поручиться, — слово «деньги», по-нeмецки такое увeсистое («деньги» по-нeмецки золото, по-французски — серебро, по-русски — мeдь), произносилось им с необычайным уважением и даже сладострастием. Но ушел бы он непремeнно, да еще с оскорбленным видом… По правдe сказать, я до сих пор не совсeм понимаю, почему все связанное с кинематографом и театром было ему так невыносимо противно; чуждо — допустим, — но противно? Постараемся это объяснить отсталостью простонародья, — нeмецкий мужик старомоден и стыдлив, — пройдитесь-ка по деревнe в купальных трусиках, — я пробовал, — увидите, что будет: мужчины остолбенeют, женщины будут фыркать в ладошку, как горничные в старосвeтских комедиях.
Я умолк. Феликс молчал тоже, водя пальцем по столу. Он полагал, вeроятно, что я ему предложу мeсто садовника или шофера, и теперь был сердит и разочарован. Я подозвал лакея, расплатился. Мы опять оказались на улицe. Ночь была рeзкая, пустынная. В тучах, похожих на черный мeх, скользила яркая, плоская луна, поминутно скрываясь.
«Вот что, Феликс. Мы разговор наш не кончили. Я этого так не оставлю. У меня есть номер в гостиницe, пойдем, переночуешь у меня».
Он принял это как должное. Несмотря на свою тупость, он понимал, что нужен мнe, и что неблагоразумно было бы оборвать наши сношения, недоговорившись до чего-нибудь. Мы снова прошли мимо двойника мeдного всадника. На бульварe не встрeтили ни души. В домах не было ни одного огня; если бы я замeтил хоть одно освeщенное окно, то подумал бы, что там кто-нибудь повeсился, оставив горeть лампу, настолько свeт показался бы неожиданным и противозаконным. Мы молча дошли до гостиницы. Нас впустил сомнамбул без воротничка. Когда мы вошли в номер, то у меня было опять ощущение чего-то очень знакомого, — но другое занимало мои мысли. Садись. Он сeл на стул, опустив кулаки на колeни и полуоткрыв рот. Я скинул пиджак и, засунув руки в карманы штанов, бренча мелкой деньгой, принялся ходить взад и вперед по комнатe. На мнe был, между прочим, сиреневый в черную мушку галстук, который слегка взлетал, когда я поворачивался на каблукe. Нeкоторое время продолжалось молчание, моя ходьба, вeтерок. Внезапно Феликс, как будто убитый наповал, уронил голову, — и стал развязывать шнурки башмаков. Я взглянул на его беспомощную шею, на грустное выражение шейных позвонков, и мнe сдeлалось как-то странно, что вот буду спать со своим двойником в одной комнатe, чуть ли не в одной постели, — кровати стояли друг к дружкe вплотную. Вмeстe с тeм меня пронзила ужасная мысль, что, может быть, у него какой-нибудь тeлесный недостаток, красный крап накожной болeзни или грубая татуировка, — я требовал от его тeла минимум сходства с моим, — за лицо я был спокоен. «Да-да, раздeвайся», — сказал я, продолжая шагать. Он поднял голову, держа в рукe безобразный башмак.