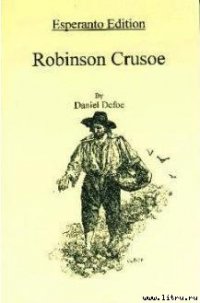История городов будущего - Брук Дэниэл (книги бесплатно без регистрации TXT) 📗
Запрет на распространение железнодорожного транспорта был частью более широкой стратегии, целью которой было оградить Россию от современного индустриального мира. Тогдашний министр финансов не скрывал, в чем, на его взгляд, состоит недостаток железных дорог: расширяя кругозор населения за пределы деревни или округи, они способствуют переменам и угрожают существующему общественному укладу. Строительство железной дороги, считал министр, будет способствовать «частым и бессмысленным перемещениям, еще более бередя неспокойный дух нашего времени»2. Практичный Николай понимал, что социальные преобразования лишь расшатают его власть. Во Франции экономическое развитие привело к образованию среднего и рабочего классов, которые были одинаково враждебны по отношению к старому аристократическому правлению. Поскольку промышленная и политическая революции шли рука об руку, Николай твердо решил не допустить в России ни ту, ни другую.
Определяющим для Петербурга середины XIX века можно назвать противоречивое переживание больших возможностей и не меньшего разочарования. То был город, чье население было слишком рафинированным как для своих властителей, так и для собственного народа. Основной же сценой, где разыгрывались эти диссонансы, стал Невский проспект – одна из главных торговых улиц планеты. Задолго до появления парижских бульваров барона Жоржа-Эжена Османа Невский уже был средоточием всего города, да, пожалуй, и всего мира. Первоначально известный как Большая Перспектива, проспект стал Невским во времена Анны Иоанновны – в честь князя, боровшегося с западными захватчиками. Переименование было, мягко говоря, неуместным, ведь именно на этой улице перед многими поколениями русских людей открывалась самая большая перспектива увидеть заграничный, и прежде всего западный, мир.
Для Николая и петербургской аристократии Невский проспект исполнял куда менее сложную функцию: в здешних магазинах они привыкли приобретать предметы роскоши европейского производства, не перенимая опыта индустриальной экономики, которая позволяла все это изготавливать, но угрожала существующему укладу. Так они могли придерживаться утонченных привычек дореволюционных французских аристократов, зимой посещая роскошные придворные балы, а лето проводя в богатых имениях, – и при этом не отказывать себе в плодах промышленной революции. На Невском продавались товары со всего мира – от механических часов до экипажей последней модели. На отпечатанной в 1830-х годах литографии с полной панорамой проспекта видно, что более половины вывесок на Невском были либо двуязычными, либо только иностранными; это была улица французских книжных (librairies) и цирюлен (coiffeurs)3. В плохую погоду – а хорошая петербуржцев не балует – покупатели укрывались в Гостином Дворе. В этом построенном по проекту Растрелли огромном, в целый квартал, неоклассицистском здании, главным фасадом выходящем на Невский проспект, разместился один из первых в мире торговых пассажей – предшественников современных мегамоллов. Но если совершать покупки на Невском могли только люди высокого происхождения и достатка – праздношатающихся крестьян не жаловали в крытых, хорошо протопленных залах Гостиного Двора, – то сам проспект был открыт для всех. На Невском можно было наблюдать всю общественную панораму Петербурга XIX столетия.
Даже в отсутствие промышленных рабочих и промышленников это было поразительно пестрое собрание. К 1840-м годам население Петербурга вдвое превысило московское4. Несмотря на николаевскую ксенофобию, город по-прежнему был на одну десятую иностранным5. На вершине социальной пирамиды вольготно расположились 50 тысяч аристократов6, чьи роскошества обеспечивались доходами их провинциальных поместий. Крепостные, составлявшие более 40 % населения города7, по 16 часов в день трудились на масштабных строительных проектах, которые, подобно монферрановскому Исаакиевскому собору, затягивались на десятилетия. На площадях столицы ежедневно маршировали полки – многие рекруты из провинции прежде ни разу не видели мостовых. Однако в первую очередь Петербург середины XIX века был городом бюрократов. Каждый день с восхода до заката тысячи государственных чиновников строчили тут свои циркуляры. Между 1800 и 1850 годами численность имперской бюрократии увеличилась в пять раз8. В 1849-м одно только Министерство внутренних дел произвело на свет 31 миллион официальных документов9.
Штат ведомств пополнялся молодыми амбициозными провинциалами – при этом исключительно мужчинами (из десяти жителей Петербурга семь были мужского пола10). Многие из них были сыновьями докторов и учителей провинциальных больниц и школ, которые открыла желавшая просветить свою погрязшую в варварстве империю Екатерина II. Для молодых карьеристов притягательность столицы была столь велика, что об этом почти иррациональном магнетизме Салтыков-Щедрин писал так: «Мы, провинциалы, устремляемся в Петербург как-то инстинктивно… Как будто Петербург сам собою, одним своим именем, своими улицами, туманом и слякотью должен что-то разрешить, на что-то пролить свет»11.
Привлекая способную молодежь со всей империи, Петербург не мог вполне соответствовать их чаяниям. Каким бы толковым ни был сын уездного доктора, на нем лежало несмываемое пятно происхождения, не позволявшее ему опередить сына уездного аристократа. Выражение некоторых современных мыслей тоже было чревато неприятностями. Грамотные жители Петербурга, подобно обитателям других европейских городов, читали ежедневные газеты, однако самая популярная из них, «Северная пчела», подвергалась такой цензуре, что в ней редко можно было прочесть хоть что-то существенное. Редактор «Пчелы», пресмыкавшийся перед властями карьерист, однажды спросил у начальника жандармского корпуса, о чем же ему писать. «Театр, выставка, Гостиный Двор, толкучка, трактиры, кондитерские, – был ответ, – вот твоя область, и дальше ее не моги ни шагу»12.
Устремившиеся в Петербург в расчете на свои способности молодые люди вскоре разочаровывались, упершись в прозрачный, но непроницаемый потолок – на следующий этаж вход был только аристократам. Некоторые уходили в политику (опасный выбор), в то время как другие искали себя в искусстве. Ограниченный в естественном росте город порождал целый мир грез.
Среди прочих амбициозных провинциалов в имперскую столицу с Украины прибыл Николай Гоголь. В написанной в 1835 году повести «Невский проспект» рассказчик начинает с восхвалений всех прелестей петербургского променада. Гуляя по Невскому с приятелем, главный герой встречает некую красавицу и тайком следует за ней по улицам города, углубляясь во все менее благополучные кварталы. Любовь с первого взгляда оборачивается отчаянием, когда погоня за казавшейся воплощенной невинностью избранницей приводит его в публичный дом. Дело кончается самоубийством несчастного, и в финале рассказчик уже обвиняет в двуличии и сам Невский проспект, и весь город. «О, не верьте этому Невскому проспекту!» – умоляет он читателя13.
В гоголевском мире Петербург – это мираж, сотканный из прекрасных фасадов. А петербуржцы, под стать своему городу, настолько увлечены соблюдением внешних приличий, что существенные вопросы отходят для них на второй план. Гоголь обожал высмеивать рабское подражание французской моде. Когда-то Петр Великий заставлял подданных бриться, чтобы выглядеть по-западному, и точно так же, стоило европейцам начать носить бороды, петербуржцы тут же принялись их отращивать. В «Невском проспекте» Гоголь описывает различные виды растительности на лице, которые можно «встретить» на одноименной улице: «Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакою кистью не изобразимые; усы, которым посвящена лучшая половина жизни, – предмет долгих бдений во время дня и ночи, усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы и которых умастили все драгоценнейшие и редчайшие сорта помад, усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленевою бумагою, усы, к которым дышит самая трогательная привязанность их посессоров и которым завидуют проходящие»14.