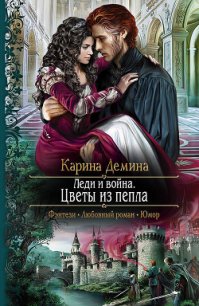Хозяйка Серых земель. Капкан на волкодлака - Демина Карина (прочитать книгу .txt) 📗
— Гавриил… — сказал гость и, густо покраснев, добавил: — Волчевский…
— А занимаетесь чем?
— Всем понемногу…
Главное, чтобы не коммивояжер, ибо это племя, бестолковое, суетливое, пан Вильчевский на дух не переносил опосля того случая, когда заезжий мошенник, коммивояжером представившийся, выманил целых сорок злотней за новую мебель для пяти спален… а после исчез, паскуда этакая.
— Не торгуете? — Пан Вильчевский указал мизинчиком на саквояж, который гость нес бережно, держа за пухлые кожаные бока, не замечая, что мнет светлый свой пиджачок.
— Нет.
Пан Вильчевский кивнул, не сказать, чтобы он был удовлетворен ответом, однако же злотень, который гость протянул заместо благодарности, послужил достойной компенсацией.
И страхи хозяина «Трех корон» утихли.
Ненадолго.
В покойницкой табачный дым мешался с иными, куда более привычными месту сему ароматами, и кисловатая смесь их, как вынужден был признать Аврелий Яковлевич, портила всякое удовольствие от цигаретки. Оттого и бросил он ее, недокуренную, на пол, растер носочком туфли и, наклонившись, носочек этот отер платком: налипли на лаковую кожу и травинки, и кусочки земли.
Нехорошо.
К обуви Аврелий Яковлевич относился с особым пиететом, помня еще те времена, когда случалось ему носить что лапти, из лозы плетенные, что грубые матросские ботинки, от которых по первости ноги кровавыми мозолями покрывались.
Вздохнул.
И, разогнав редкие дымы, принялся за дело.
Благо пол в покойницкой был ровный, плита к плите, а в особом закутке, которым штатный ведьмак пользовался, и знаки вычертить не поленились белою заговоренною краской. Конечно, лучше бы вовсе на камне выбить, но то дело муторное, затратное…
Знаки Аврелий Яковлевич подновил.
Отступил, окинув картину критическим взором, почесал бороду и добавил несколько собственных, тайных, печатей. Мыслилось ему, что покойницы нынешние, ежели и соизволят для беседы восстать, то всяко возвращению в мир живых не обрадуются.
Привычная работа помогала отрешиться от тревоги, и Аврелий Яковлевич даже запел, благо из нынешних его слушателей не сыщется такого, кому пение сие не по нраву будет. Мертвецы большею частью народец тихий, незлобливый и к чужим слабостям относящийся с пониманием… не станут носами крутить да говорить, что, дескать, голосина у ведьмака знатная, а слуха вовсе нету…
Нету. И что?
Он небось в операнты не рвется. У него собственное дело есть… даже два, ежели по нынешнему времени.
Первой Аврелий Яковлевич в очерченный круг положил сваху. Оттаявшее тело было неудобно тяжелым, каким-то неправильным, точно лишенным костей. И Аврелий Яковлевич долго маялся, силясь придать ему позу, хоть сколько бы привычную.
— Ну что, хорошая моя, поговорим? — произнес он, вытаскивая очередную цигаретку. Но, затянувшись, лишь крякнул да сплюнул: табак имел отчетливый привкус сивухи.
Вот же незадача… и примета дурная: не выйдет ничего из этакой затеи.
Однако Аврелий Яковлевич был не того характера, чтобы взять и отступить. Он цигаретку докурил, исключительно из упрямства, а окурок втоптал в щель меж каменными плитами. Потянулся, расправляя плечи, чувствуя, как тянутся мышцы, хрустят под тяжестью их и чего-то неявного, неведомого кости.
Вихрь пронесся по покойницкой, хлопнул дверцами шкапа, лизнул изъеденную норами-ячейками стену. И, успокоившийся, покорный ведьмацким рукам, сплелся хитровязью тайных знаков.
Похолодало.
В покойницкой и без того не было жарко, но вихрь принес призрачные снежинки, которые заплясали, закружили в круге, оседая на синюшном лице мертвой женщины. И дрогнули веки, отзываясь на чужую волю, чужую силу. Приоткрылся рот. И черная жижа хлынула из глотки.
— Чтоб тебя… — Аврелий Яковлевич отступил от края.
Тело плавилось. Оно оплывало восковой фигурой, растекаясь по камням, затапливая рисованные знаки. И венчики свечей колыхнулись, потревоженные незримою рукой. Не погасли… И не погаснут.
Хорошие свечи, правильно сделанные.
— Ш-шалишь…
От лужи воняло.
Сточной канавой, водой болотной, затхлой, мертвыми колодцами, на дне которых давно истлела заемная луна. Пахло смертью подлой, той, что не отпускает души, но вяжет их к земле путами неисполненных обещаний, утраченных надежд.
— Прочь. — Аврелий Яковлевич вскинул руки. — Уходи…
Белое пламя поднялось над тем, что некогда было человеком. Вспыхнуло ровно, яростно, обдав не жаром, но опаляющим лютым холодом, от которого и борода побелела.
— Я… силой, данною мне… — Каждое слово давалось с трудом, каждый вдох раздирал легкие, каждый выдох оседал на губах мелкой кровяной капелью. — Отпускаю душу… Зузанны Вышковец… покойся с миром.
Сомкнулись ладони над головой.
И пламя погасло.
Ведьмак же опустился на пол и головой покачал, облизал губы, поморщился… по-хорошему следовало бы кликнуть кого на подмогу, да только куда потом этого свидетеля девать?
— Ну что, красавица? — Аврелий Яковлевич не знал, сколько времени прошло, пока ему полегчало настолько, чтобы подняться.
Много. Больше, чем в прежние времена… стареет, значит. Все стареют, даже боги, а ведьмакам до богов далеконько…
— Ты-то как? Снизойдешь до Старика-то?
От Зузанны Вышковец осталось черное пятно сажи.
Рисунок Аврелий Яковлевич чертил наново, благо имелся и мел заговоренный, и мыло, на жиру висельника варенное, дефицит-то по нынешним, гуманным, временам… а слухи ходят, что в разрезе новомодных эуропейских тенденций смертную казнь и вовсе запретят.
С чем работать тогда? Самоубийц на всех не хватит…
Рисунок лег ровно, аккуратно, и свечи вспыхнули одновременно. А Нинон, лежавшая до того смирнехонько, как полагается приличной покойнице, глаза открыла. Секунду или две лежала, разглядывая сводчатый потолок. Усмехнулась кривовато. Пальцами пошевелила, подняла руки, повертела, разглядывая их, белесые, пухлые… лицо отерла да и села, с трудом.
— Нехороша? — спросила, голову наклонив. И этак, с намеком, простыночку белую, которой Аврелий Яковлевич тело укрыл, с плечика спустила.
— Хороша… была… когда-то, — почти дипломатично заметил Аврелий Яковлевич.
Покойница фыркнула и простынку приспустила.
— Что, совсем не нравлюсь?
— Извини, — развел он руками, — но я как-то больше по живым…
— Ах да… — точно спохватилась она, всплеснула руками, и простынка съехала на пол. — Живые… живые всем нужны… хочешь, песенку спою?
— Скажи лучше, кто тебя так…
— А то сам не знаешь… а ведь не знаешь. — Она рассмеялась гортанным хриплым смехом. — И никто не знает… не узнает…
— Тебе не обидно?
— За что мне должно быть обидно?
— За то, что тебя убили…
— Ай, брось, дорогой… золотой ты мой, яхонтовый. — Нинон неловко сползла со стола. — Дай ручку, погадаю… все как есть расскажу про судьбу твою, про зазнобу сердечную, про дорогу дальнюю… дай ручку…
Она протянула собственную, пальцы которой скукожились, точно бумага над огнем. И черными иглами выглядывали из них когти.
— Боишься Нинон?
— Мала ты еще, чтоб тебя боялся.
Она шла, неловко переваливаясь с ноги на ногу, и наспех зашитый живот расползался черной раной. Нинон, спохватившись, что еще немного и кишки выпадут, прижала к животу растопыренную пятерню.
— Не боишься, значит… — вздохнула с притворным огорчением, — тогда позолоти ручку… и Нинон все тебе скажет, как есть, ничего не утаит… о жизни своей да горестной.
Говорила она с переливами, и голос ее то становился тоненьким, щебечущим, то превращался в скрежет, то и вовсе скатывался до шепота. И хотелось шагнуть навстречу, к черте заговоренной, чтобы, не приведите боги, не упустить и словечка.
— Ишь ты, — восхитился Аврелий Яковлевич, сплюнув под ноги, — какая ныне нечисть бойкая пошла. Только вылупилась, а уже голову морочит… аль ты у нас и при жизни одаренною была?
— Росла сирота-сиротинушка… матушка померла, батюшка продал… как в той песне, знаешь? Ехал из ярмарки ухарь-купец, ухарь-купец, удалой молодец… — завела Нинон, притаптывая на месте. Обвислые груди ее покачивались, но черные глаза неотрывно следили за каждым движением ведьмака. — Продал… продал и не спросил… а тот перепродал… и пошла Нинушка по рукам…