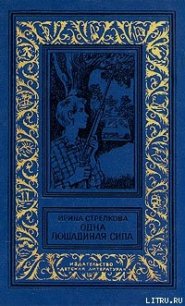Хозяин музея Прадо и пророческие картины - Сьерра Хавьер (полные книги .TXT) 📗
— Как и шедевр Тициана?
— Да. — Доктор улыбнулся. — Важно, чтобы ты знал почему.
И дальше маэстро Фовел рассказал мне потрясающую историю. Картина не была датирована автором, и также не существовало никаких контрактов или других документов эпохи, которые могли бы помочь позиционировать ее во времени. Тем не менее многие эксперты сходились во мнении, что написана она была примерно в 1577 году, сразу после приезда художника в Мадрид. В сущности, по словам маэстро, эта работа явилась первой, выполненной художником на испанской земле. Доменико не удалось добиться должного признания в Италии, где он овладевал секретами ремесла под влиянием венецианцев Тициана и Тинторетто, а также Корреджо. Большое впечатление произвели на художника поздние работы великого Микеланджело. Но перешагнув через барьер тридцатилетия, он почувствовал тягу к целям более высоким.
— И тогда судьба улыбнулась ему, — драматическим тоном заявил Фовел.
Неизвестно, какие обстоятельства этому сопутствовали, но маэстро из Прадо не сомневался, что грек повстречался в Риме с богословом Бенито Ариасом Монтано. И ученый гуманист — словно по замыслу божественного проведения — сделался наставником живописца. В 1576 году будущий библиотекарь Эскориала приехал в Вечный город, чтобы уладить с Ватиканом разногласия, возникшие в связи с изданием Королевской Библии. Ариас Монтано к тому моменту уже играл заметную роль в общине «Семейство любящих», и для него, как и для его единоверцев, сплотившихся вокруг книгопечатника Плантена, было жизненно важно, чтобы труд получил одобрение папы. В этом случае осуществление идеи конфессионального объединения приблизило бы тайную цель Генриха Никлаэса провозгласить себя мессией нового человечества. Но не все прошло гладко. В Испании ученые из университета в Саламанке сочли переводы Ариаса Монтано неточными, а также заподозрили в иудаизме, поскольку он считал еврейский источник наиболее авторитетным. Критики сумели посеять сомнения среди папской курии, разрушив все планы.
И как раз в этот сложный для себя период Ариас Монтано познакомился с Эль Греко. Очевидно, их встреча состоялась в том месте, где бывали оба, то есть при дворе кардинала Алессандро Фарнезе, который оказывал покровительство Доменико. Во дворце кардинала Эль Греко подружился с его библиотекарем Фульвио Орсини, и, вероятно, именно он представил художника Ариасу Монтано. Остальное получилось само собой. Испанец увидел картины Эль Греко и уговорил отправиться в Мадрид, чтобы принять участие в оформлении грандиозного проекта, каким являлся монастырь Эскориал. В тот период Филиппа II обуревали горделивые замыслы по живописному убранству его любимого детища, и король нуждался в исполнителях.
В начале 1577 года, вскоре после переезда в Испанию и желая добиться расположения монарха, Эль Греко написал «Глорию».
— Нетрудно представить, как Доменико бродил в одиночестве по монастырю, не имея возможности поговорить с кем-нибудь по-гречески, кроме Ариаса Монтано, и созерцая любимые картины короля, — увлеченно рассказывал Фовел. — В королевских покоях висели картины Босха и, наверное, «Триумф смерти» Брейгеля. Я убежден, что рьяный фамилист Монтано объяснил, как следует читать их, и попросил Эль Греко написать свою версию.
— И так он утвердился при дворе.
— В какой-то мере. Разумеется, его «Глория» не ускользнула от внимания, однако не понравилась королю, по свидетельству хрониста монастыря брата Хосе де Сигуэнсы. Вернее, «не удовлетворила его величество». Хотя в композиции получили должную интерпретацию образы, близкие сердцу монарха: акт явления чуда над головой венценосца как символ незримой поддержки небес; разделение праведников и грешников, и даже циклопический левиафан, чудовище, пожиравшее нечестивые души, что соответствовало стилю фламандских художников.
— И не только, доктор, — заметил я.
Маэстро вскинул брови:
— Что ты хочешь сказать?
Возникла неловкая пауза, пока я решал, уместно ли разнообразить наш диалог, дополнив его темой, которая явно выходила за рамки «плана урока» Фовела. Но я рискнул.
— Я имею в виду древних египтян, — признался я.
— Египтян?
— Меня всегда интересовал Древний Египет. И также я знаком с картиной, о которой вы ведете речь. Это, наверное, одно из самых известных полотен Эль Греко. Дело в том, что я вижу аналогию сюжета: монстр, пожирающий грешников за спиной правителя, часто встречается в религиозных текстах эпохи фараонов, написанных около трех десятков столетий назад!
Фовел смотрел на меня выжидающе. Он не опроверг мои слова и не попросил замолчать. Напротив, выражал любопытство. Учитывая, сколько времени я безропотно слушал его лекции, факт, что мне удалось удивить его, стал моей маленькой победой. Маэстро не ожидал — поскольку наши беседы обычно протекали строго в заданном им русле, — что одним из моих увлечений являлась древняя цивилизация пирамид.
— Не удивляйтесь, доктор, — улыбнулся я. — В «Книге мертвых», которой не менее трех с половиной тысяч лет, есть эпизод, предопределяющий формирование образа именно такого монстра. Тексты писали на свитках папируса, обычно их клали около головы покойного как своеобразную карту загробного мира. Не существовало двух одинаковых версий. Но что примечательно, имелся сюжет, который неизменно повторялся во всех текстах для мертвых, и это был сюжет о Левиафане. Он присутствовал обязательно.
— Пожалуй, после твоего исторического экскурса чудовище не выглядит как пример чисто библейской традиции, — произнес Фовел.
— Он им и не является. Но мне кажется чрезвычайно важным, что даже на картине XVI века данный персонаж ассоциируется с символом Страшного суда. Египтяне выдумали высший суд душ мертвых намного раньше, чем иудеи и христиане начали говорить о нем. В Египте чудовище представляли как одно из испытаний, с каким предстоит встретиться фараону на пути перехода от земной жизни к жизни вечной. Он выступал свидетелем, когда Анубис, божество с головой шакала, взвешивал на весах истины душу фараона, определяя, несет она в себе грех или нет. Если ответ был утвердительным, то огромные челюсти разверзались, и чудовище проглатывало фараона, лишая его вечной жизни. Для египтян на свете не существовало никого страшнее, чем Аммит или Амат — пожирательница душ.
Фовел внимательно слушал меня. Тема его настолько заинтересовала, что он начал задавать вопросы:
— Как получилось, что после египтян и вплоть до Эль Греко никто не изображал эту Аммит?
— Создатели готических соборов часто использовали сцену «взвешивания душ» для украшения фасадов. С одной стороны весов помещали спасенных, а по другую — обреченных. Кстати, если помните «Глорию» Эль Греко, праведники находятся слева от монстра, вступая под мистическую божественную сень. Получается, что единственным различием в трактовке сюжета древними египтянами и строителями готических соборов является то, что христиане заменили бога Анубиса ангелом.
— Логично, — улыбнулся доктор. — Меня радует, что ты способен обнаружить связь между непохожими графическими формами и поинтересоваться основой изображения, какое ты видишь.
— Каждый раз, рассуждая о следах египетской цивилизации в западной культуре, я задаюсь вопросом: как и почему знаковые философские символы передавались от цивилизации к цивилизации, от религии к религии, сквозь время?
— И в самом деле это величайшая тайна, — подтвердил Фовел, не отрывая взгляда от «Благовещения», перед которым мы в тот момент стояли. — Стремление добраться до первоисточника в искусстве напоминает мне полемику, целью которой было выявить традицию, послужившую основой для вероучения Братьев свободного духа, равно как и фамилистов. Я участвовал во многих дискуссиях и в итоге пришел к иным заключениям.
— Вы обнаружили общие корни еретических сект?
— Возьми общину «Семейство любящих», оказавшую глубокое влияние на Ариаса Монтано, а позднее — на Эль Греко, — сказал он, коснувшись виска указательным пальцем левой руки. — Члены общины ощущали себя проводниками веры миноритарной, как они считали, находившейся в неравном положении по сравнению с преобладавшими конфессиями. В отличие от ортодоксальных христиан или иудеев они проповедовали непосредственное общение с Богом. Верили, что Бог есть в каждом человеке, и достаточно приблизиться к свету Божьему, чтобы проявилось его присутствие. Данные представления мы находим в религии катаров двумя столетиями ранее, и даже еще раньше, у первых отцов церкви, среди гностиков. Как известно ныне, фамилисты, к которым примкнул Брейгель, являлись своего рода последними в истории отблесками доктрины катаров. Не случайно одни называли свою веру «Семьей любви», а другие «Храмом любви», противопоставляя себя Риму. Amor — Roma, Рим наоборот.