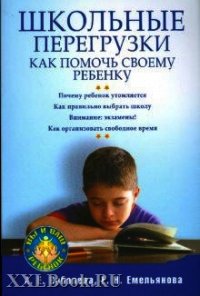Роковая красавица (Барыня уходит в табор, Нас связала судьба) - Туманова Анастасия
Разговорами их общение можно было назвать с трудом. Обычно Илья молча сидел на подоконнике или на полу возле кровати и слушал, как Ольга вспоминает свою жизнь с Рябовым. Она заметно оживлялась во время этих рассказов. Вспоминала, как на Пасху Прокофий Игнатьич принес ей инкрустированную перламутром маленькую «гитарку»; как она пела для него «Матушка, что во поле пыльно», как он носил Ольгу на руках по их новому, еще пустому дому в Сивцевом Вражке, а она, уже беременная, пугалась и умоляла отпустить ее; о том, как они вдвоем катались с гор в Сокольниках, как опрокинулись сани и как она испугалась за Прокофия Игнатьича, а он, озорник и кромешник, хохотал так, что с елей сыпался снег. Илья слушал не перебивая, боялся шевельнуться, чтобы не спугнуть появившуюся на бледных губах слабую улыбку и живой блеск глаз. Но через какое-то время Ольга спохватывалась сама. Бросала виноватый взгляд на Илью, опускала ресницы: «Ох, прости, чаворо… Замучила тебя своей болтовней. Расскажи лучше ты. Про табор, про родню расскажи». Илья смущался, поскольку рассказывать был не мастер, да и чувствовал, что Ольге не интересны его таборные похождения. Через несколько неловких фраз разговор снова возвращался к Прокофию Игнатьичу.
Несколько раз Илья осторожно интересовался, что Ольга собирается делать после родов. В глубине души он был уверен, что Митро согласится взять блудную жену обратно – даже рискнув поссориться с матерью и Яковом Васильевым. Но Ольга твердо говорила: «Вернусь в Тулу, к своим». О своей недолгой жизни с Митро в Большом доме она вспоминать не любила. В ответ на вопросы Варьки (Илья о том же спрашивать не осмеливался) болезненно морщилась: «Что говорить… Дело прошлое».
Однажды разговор зашел о Насте. Ольга помнила сестренку мужа десятилетней девочкой. Узнав, что теперь по подросшей Настьке сходит с ума половина Москвы, она ничуть не удивилась:
– Ну, это мне сразу видно было. Еще когда меня Митро первый раз в дом привел, стою я на пороге, смотрю на цыган… а они на меня… Страшно – все незнакомые, чужие, а мне двадцать лет всего. Тихо в доме так. И вдруг слышу – поет кто-то. Голосок вроде детский, а хорошо поет – сил нет! «Меня в толпе ты не узнала» – это модный тогда романс был, новый. Я и бояться забыла, кручу головой, не могу понять – где певица. Вдруг вижу – на четвереньках из-под стола лезет! Глазастая, ресничищи до полщеки, волосы копной, куклу за ногу волочит – малявка! Я сразу поняла – первая певица будет. Значит, красавицей выросла?
– Да… хороша, – нехотя отозвался Илья.
Ольга искоса взглянула на него.
– Раз хороша, отчего не сватаешь?
– Куда нам… – отмахнулся он. Хотелось сказать это как можно равнодушнее, но Ольга понимающе улыбнулась:
– Что так? За тебя отдать могут. Деньги хорошие имеешь, если захочешь – и дом купишь, в хоре первый тенор… Я слышала, как про Смоляковых по Москве рассказывают, только не знала, что это вы с Варькой. Да тебе сейчас только пригрозить, что из хора уйдешь, – и Яков Васильич Настьку не глядя отдаст.
Илья молчал. И вздрогнул от неожиданности, когда ладонь Ольги легла ему на плечо.
– Ты с ней самой не пробовал говорить?
Он пожал плечами, отвернулся. Вздохнул… и вдруг, сам не зная как, рассказал Ольге все. О том, как впервые увидел Настьку теплым осенним днем. О том, как лазил ночами на ветлу, чтобы только взглянуть на нее, как снились ему блестящие черные глаза и косы до колен. О князе. Об уговоре вдвоем бежать из Москвы. И обо всем, что случилось после.
Ольга слушала внимательно, не перебивая. Ее сухая горячая рука поглаживала Илью по плечу.
– Ну так что ж, – медленно выговорила она, когда Илья умолк, уставившись в пол. – Сбежнев, говоришь, уехал? Тебе и карты в руки. Сватай.
– Еще чего! – вспыхнул он.
Рука Ольги сползла с его плеча.
– А-а, вон что… – протянула она. – Не хочешь порченую брать?
– Не хочу, – зло сказал Илья. Ольга, откинувшись на подушки, в упор посмотрела на него.
– Что ж… Настоящий цыган.
Илья молчал. Он привык слышать эти слова как похвалу, но в голосе Ольги так явно сквозила насмешка, что Илья не смог даже глаз поднять на нее. К счастью, в горницу вошла Варька с кружкой травяного отвара. За спиной сестры Илья незаметно выскользнул за дверь.
Между тем к Живодерке подбиралась весна. Еще стояли морозы, еще мели мартовские метели, выл ветер, колотя по гудящей крыше сучьями ветлы, и под утро домики оказывались заметенными до окон. Но в полдень солнце уже поднималось высоко, снег пластами сползал с повлажневших ветвей деревьев, уже по-другому пахла кора старой ветлы, веселее делались лица живодерцев. Длинная, холодная, надоевшая всем зима шаг за шагом отступала.
На Масленицу солнце снопами било в окна. Слепящий свет весело дробился на грифах висящих на стене гитар. По полу скакали солнечные пятна, на осколок Варькиного зеркала нельзя было взглянуть. С улицы слышались песни и радостный гам: ребятишки катали из липкого снега последнюю бабу. С кухни доносилось шлепанье теста и мощные басовые раскаты Макарьевны, распевавшей «Гей, матушка-солдатушка». Варька, выставив из дома парней и подоткнув выше колен старую юбку, взялась мыть полы. Ольга, всю ночь накануне промучившаяся кашлем, лежала с закрытыми глазами, запрокинув серое, осунувшееся лицо. Варька с тревогой посматривала на нее.
– Ты бы хоть сейчас заснула, – с досадой сказала она, вытирая локтем потный лоб. – Поспи, сделай милость, пока блины дойдут, а то… Илья!!! Да чтоб тебе, куда ты?
Варька замахнулась тряпкой, и Илья, с грохотом ворвавшийся в горницу в облепленных грязным снегом валенках, едва успел отпрыгнуть назад, в сени.
– Варька, выйди! – не обидевшись, позвал он. – Там на улице Масленицу провожают!
– Ну вот, только мне и дела… – пробурчала Варька, снова нагибаясь к ведру. Но едва за братом захлопнулась дверь, она бросила тряпку и подбежала к окну.
Ольга слабо улыбнулась, глядя на то, как Варька, плюща нос, прижимается к запыленному стеклу.
– Что там, девочка?
– Масленицу несут! – Варька подошла поправить ей подушку. – Вот я тебя сейчас к окошку поверну, сама посмотришь.
По Живодерке валила веселая орава молодежи – мастеровые, фабричные девчонки, половые из трактира «Молдавия», девушки мадам Данаи, подмастерья из ткацкой, студенты, цыгане. Вышедший за ворота Илья увидел смеющиеся глаза Гашки Трофимовой в новой шали поверх полушубка, Ваньку Конакова в расстегнутом на груди кожухе, Стешку, откусывающую от сложенного «конвертиком» блина. Под ногами у взрослых вертелась детвора. Вдоль по улице неслась залихватская песня на мотив «Барыни»:
В середине процессии Илья разглядел фигуры студента Рыбникова и Митро. Они несли на плечах чучело Масленицы. Сначала Илье показалось, что Масленица, как обычно, скручена из соломы и тряпок, но, приглядевшись, он заметил в чучеле некоторую странность. Оно вело себя необычайно бойко, вертелось по сторонам и вовсю размахивало руками и ногами – так что Митро, ворча, уже примеривался дать чучелу шлепок. Илья нахмурился, озадаченно потер глаза – и вдруг, хлопнув себя по коленям, расхохотался. На плечах Митро и Рыбникова восседал Кузьма, наряженный в вывернутую наизнанку овчину и подпоясанный мочалом. Его кудлатую голову венчал парик из соломы, перевязанный праздничным платком Макарьевны, который та тщетно искала все утро. Скуластая физиономия Кузьмы была разрисована жженой пробкой и сажей, намазанные свеклой щеки горели, как у самоварной бабы, а зубы сверкали в ухмылке. В руках «Масленица» держал целую пачку блинов и уминал их с завидным аппетитом, при этом почтительно отворачиваясь от Митро и капая маслом и сметаной точно на голову Рыбникову. Тот ревел: