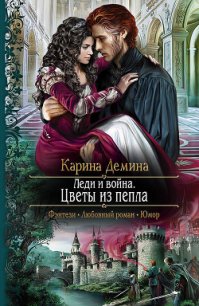Хозяйка Серых земель. Капкан на волкодлака - Демина Карина (прочитать книгу .txt) 📗
— Похоже, что почерк его. — Себастьян бумагу принял осторожно. — Но я тебе скажу, в Познаньске довольно умельцев, которые на раз любой почерк изобразят…
Евдокия собиралась быстро.
Белье. И на смену. Простое. Без кружев и вышивок. Чулки. Платье серое, шерстяное. И то, которое на ней, сойдет… в саквояж много не вместится… деньги. Надобно будет в банк заехать, снять еще пару тысяч, пригодятся.
— Чушь собачья, — прокомментировал Себастьян, но письмо сложил, сунул в карман. — Это не он писал… но, если пропал… не надо было отпускать вас.
— Он… жив?
— Перстень?
Держался.
Темный. Тяжелый. И Евдокии подумалось, что зря она злилась на то, что перстень этот порой мешал. Как бы она была, не зная наверняка.
— Вот видишь! — нарочито бодро произнес Себастьян. — Живой. Значит, осталась мелочь. Найти и торжественно вернуть в лоно семьи…
Наверное, так. Надо верить. Если очень сильно верить, то сбудется. А Евдокия будет верить от всего сердца, потому что иначе нельзя. Не отпустит она. Не позволит спрятаться от себя ни в монастыре, ни у Хельма за пазухой… отправится по следу.
Найдет.
И устроит скандал. Обыкновенный пошлый скандал с битьем посуды, слезами и обвинениями… потому что ушел тихо.
Исчез.
Бросил.
И чтобы не разреветься прямо здесь — да что с ней происходит? — Евдокия решительно подняла саквояж. Себастьян наблюдал за ней. Сам неподвижный, что кошак, который за мышью следит, только кончик хвоста подергивается вправо-влево.
— Что не так?
— Все не так, Дуся. Но разберемся… только не суйся никуда в одиночку, ладно?
Поверила.
И, прогоняя призраки собственных недавних страхов, ворчливо поинтересовалась:
— Я бы и не сунулась. Но я, между прочим, трижды в управление звонила! И хозяйке твоей… и вообще… где ты был?
— У вдовы одной… — Взгляд ненаследного князя слегка затуманился, а на губах появилась такая довольная улыбка, что всякие сомнения о том, был ли визит к оной вдове удачен, исчезли.
— И чем же вы занимались?
— Размышляли о высоком… Дуся, не ревнуй, тебе не идет.
— Я не ревную… я сочувствую.
— Кому?
— Вдове!
Он забрал саквояж и руку предложил.
— У женщины траур… а тут ты объявился…
— И весь траур испоганил…
Евдокия говорила. Глупости какие-то говорила, лишь бы не слушать вязкую тишину дома, лишь бы не думать о том, что Лихо, ее Лихо, исчез.
Жив, конечно.
Но исчез… а на ступеньках ждал подарок: широкая серебристая полоса.
— Это еще ничего не значит, — сказал Себастьян, подняв ошейник.
А Евдокия не поверила. Не смогла.
Глава 16,
в которой познаньский воевода пытается пить чай и встречает неурочного гостя
Диплом позволяет ошибаться значительно увереннее.
Евстафий Елисеевич пил чай.
По давней привычке, появившейся в незапамятные еще времена, когда жив был его папенька и немка Капитолина Арнольдовна с ея сплетнями, чаевничать он садился в половине третьего. И о том знали все, от почтеннейшей дамы-секретаря, которая растапливала тольский самовар сосновыми шишками — ими Евстафию Елисеевичу, зная об этакой воеводиной слабости, кланялись купцы, — до самого распоследнего курсанта. И не было во всем управлении человека, столь душевно черствого, каковой бы в силу оной черствости осмелился бы прервать сей ритуал чаепития.
За чаем и думалось легче, и заботы отступали, и язва, давняя подруга, стихала, принимая подношеньице не то пряничком, не то пирожком, главное, чтоб с вареньицем малиновым, аль сливовым, аль еще каким… о полуденном чае Евстафий Елисеевич мечтал целый день, несколько стесняясь этаких мыслей своих; на рабочем-то месте в его представлениях следовало думать исключительно о работе, но в кои-то веки не думалось.
Вот чай — дело иное.
На вишневых-то веточках… со смородиновым листом пахучим. С чабрецом, который он самолично, не брезгуя делом столь низким, собирал, да сушил, да растирал едва ли не в порошок…
…уж лучше о чае, чем о недовольстве генерал-губернатора.
Вызывал батюшка.
Говорил сухо, слова цедил да глядел поверх головы, отчего Евстафий Елисеевич себя сразу ощущал дюже виновным, хотя при всем том не раскаивался нисколечки. Закон… оно верно, что на страже закона стоит, да только где это видано, чтобы закон вовсе без совести был?
Нехорошо вышло.
И намекнули, что засиделся уж Евстафий Елисеевич на месте воеводином… оно конечно, в прошлом-то годе отличился, да только одними былыми заслугами жив не будешь.
Как есть, спровадят в отставку. Почетную. Выдадут орден за безупречную службу, а к нему сабельку с гравировкою, аль кисет, аль часы… мало ли штуковин бессмысленных в городских лавках имеется? Подыщут… и придется идти…
А и уйдет!
Мысль сия, почти крамольная, причиняла боль.
Куда уйдет? Всю жизнь ведь на службе-то… сначала с папенькой, пусть будут милостивы боги к душе его, после курсы… и вновь служба. Год за годом… и теперь-то странно, что есть иная жизнь. Какая? Какая-нибудь…
— Кроликов разводить стану, — сказал Евстафий Елисеевич государю, который глядел сочувственно, стало быть, понимал, сколь важное решение принял для себя познаньский воевода. — Шайранской породы… ох, видел я такого на рынке. Не кролик — монстра… или собак, ежели по-благородному…
Вздохнул.
На часах была четверть третьего, и значит, поставлен уже самовар, дымит, пыхтит, нагревая в утробе своей да ключевую воду.
…Дануточка только обрадуется… сама частенько про отставку заговаривала, про годы немалые, про то, что в поместьице, государем дарованное, наведаться след. Порядок навести. Домом заняться. Угодьями… Что негоже Евстафию Елисеевичу в его-то чинах и денно, и нощно на работе пропадать. И надо бы ему пример с иных брать, с тех людишек, которые в присутствии лишь отметиться и ходят, а он все…
Неправильно живет.
И душою болеет.
И язвою. Ожила, зашевелилась, проклятущая…
— Угомонись ужо, — велел ей Евстафий Елисеевич. — Сейчас поедим… а с делом этим, глядишь, и разберемся Вотановой милостью.
Сказал и поверил себе вдруг: разберется. Сколько было этаких дел сложных, с первого-то взгляда и вовсе не понятных, безнадежных порою, ан нет, в каждом разбирался, разбирал, разматывал по ниточке клубки чужих преступлений.
И тут справится.
Глядишь, и не подведет ненаследный князь… в то, что убивал братец его, Евстафий Елисеевич не верил, а вот в то, что смерти случившиеся выгодно приписать Лихославу Вевельскому…
Он вновь вздохнул.
Нет, чем так, то лучше почетная отставка… или не почетная. С позором-то уволить небось не должны… не за что… и пенсию сохранят… и наступит спокойная мирная жизнь, как у многих. Только от мысли об этакой мирной жизни Евстафия Елисеевича кривить начинало.
Чай он по той же привычке заваривал сам. Заварку отмерял серебряной ложечкой, единственным наследством, от папеньки доставшимся, заливал кипятком, мурлыча под нос песенку, благо к этому моменту кабинет Евстафия Елисеевича пустел: и у секретаря имелись свои полуденные дела.
Он же накрывал чашку матерчатою грелкой, шитой в виде курицы, — сама Дануточка изволила рукодельничать, давненько, правда, еще в девичестве, и за годы курица поистрепалась, утратила где-то бисерный глаз, но осталась дорога Евстафию Елисеевичу и такою, одноглазой.
В ожидании, когда чай дойдет, познаньский воевода раскалывал белую сахарную голову — не понимал он нынешней моды на рафинад аль сыпучий сахар — раскладывал пряники с печеньем, извлекал из футляра серебряное ситечко…
Он с наслаждением вдыхал первый, самый ароматный пар. И, осторожно поддерживая старый же чайник, лил чай на ситечко, глядел, как расползается темная, густая с виду жидкость по сетке. К этому моменту он обычно успокаивался, выбрасывая из головы лишние мысли.