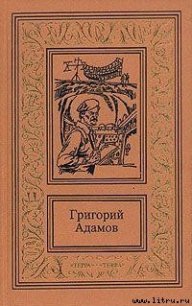Музейный роман - Ряжский Григорий Викторович (чтение книг .txt, .fb2) 📗
— Я-я-ясно, Евочка… — задумчиво протянул Лёва, — ясно, что чуда не произошло: снова в деле всё та же покойница наша. А копию шагаловскую, ясное дело, она потом вернула точно тем же способом, простым и понятным. Даже можно щупальца твои больше не запускать. Вопрос только, где оригинал, у кого? — И тут же догнал её очередным вопросом: — А ты, кстати, не помнишь саму картину? Сюжет, я имею в виду. Тебе тогда удалось разглядеть её? Или, может, сейчас.
— И тогда, и сейчас. Она же провисела всю выставку, когда французы не явились. Всю эту экспозицию держали ещё какое-то время, у нас, на втором «плоском». Но потом быстро свернули, видно, бабка передумала.
— А я в Лондоне в то время был, — подал голос Алабин, — так что не довелось глянуть.
— Там… значит, так, смотрите… — Она уставилась в потолок и начала описывать: — Петух… зеленоклювый, краснопёрый по груди и с фиолетовыми крыльями. Позади него невеста с женихом… У неё платье белое — колодой, у него — пейсы из-под чёрной шляпы с полями… в небо намереваются отлететь, как обычно. И лошадь красномордая, мечтательная, печальноглазая, с голубым хвостом… Ну и по мелочи всякое, вроде мелкой кошки с сабельными усами, в углу, серой или тоже голубоватой, как хвост у этой лошади…
— Стоп… — внезапно оборвал её Лёва, — хотя… нет… Да нет, какое там…
— Что? — вскинула глаза Ева. — Вспомнилось что-то?
— Да так, пустое… — отмахнулся Алабин и подбил итоги второго рабочего совещания. — В общем, так, моя милая гостья. Сейчас мы с тобой перемещаемся на кухню, где выгребаем из моего скромного рефрижератора остатки провианта. Затем питаемся тем, чего бог послал из съестного холостяцкого запаса. После чего ты укладываешься вон туда, — он кивнул в конец просматриваемого из гостиной коридора, — там у меня гостевая комната, где ты выспишься и отдохнёшь. Утром отвезу на службу. А заберу, как водится, после работы. И никакого Товарного сегодня, слышишь?
— Хорошо, Лев Арсеньич, — покорно согласилась ведьма.
То, как она это произнесла, ему понравилось, потому что звук её голоса снова лёг на душу тёплым и родным. А она спросила ещё:
— Как вы думаете, почему именно Шагал привлёк их, а не кто-то другой?
— Ну, тут и вопроса нет, — криво ухмыльнулся искусствовед, — просто скопировать его не представляет особого труда, сам по себе живописный канон там практически отсутствует, нет внятного критерия. А для отдельных купцов его работы вообще странная, дурно писанная мазня: мазок туда, мазок сюда — не принципиально. И беспроигрышно для дальнейшей реализации: деньги большущие, а труда как такового нет. Это если не к собирателю уйдёт, а к какому-нибудь хитровану со средствами. И тут же в сейф ляжет. А для фуфлыжника вообще подарок. Не Шишкин и не Айвазовский, ни шерсть у мишек прописывать не придётся, ни пену морскую до посинения выводить. Очень удобно.
Утром он накормил её завтраком, который удалось соорудить из разогретого и залитого яйцами остатка ужина. К тому же не поленился, сделал кофе, который никогда не варил сам, предпочитая выпивать утреннюю чашку на стороне.
Еву он доставил к служебному входу в музей, точно ко времени. Как только запарковался и они выбрались, рядом тормознула чёрная «хонда», внедорожник. Встала рядом, бампер в бампер. К этому моменту Алабин, предложив хромой музейщице руку, уже успел довести её до входных дверей. Темницкий, выбравшийся из «хонды», заметил Лёву, приветливо кивнул, пошёл навстречу.
— Очень галантно! — Приветствуя Алабина, он протянул ему руку, и Лев Арсеньевич пожал её, удивившись:
— Это ты о чём, Жень?
— Ну как, — подмигнул тот, — вот, смотрю, контингентом нашим интересуешься, ручки подаёшь, до дверей сопровождаешь.
— Просто помог инвалиду, — без особой эмоции на чуть потерянной физиономии отозвался Алабин, — скользко же.
— Ну да, ну да, просто помог… — насмешливо отреагировал Темницкий. — Подвёз — увидел — победил? А она вообще ничего, дамочка эта. Со второго вроде бы смотрительница — верно? Если б не нога эта, то я тебе скажу… вполне, вполне…
— Ты лучше скажи, чего пишут и что говорят. — Алабину резко захотелось перевести неприятный ему разговор на другую тему. Не хотелось впускать посторонних во всякое, непонятное даже самому. — А то закрутился я что-то, да и башка последние пару дней как чугунная.
— Ну что пишут… — оживился Темницкий, — пишут, что коллекция совершенно уникальна, что великолепно сохранилась, что по-прежнему бриллиант в мировой сокровищнице. Ну и всякое такое. А ты на что, собственно, рассчитывал: что скажут, мол, всё это фуфло мутное, а вовсе не то, чего ждала от экспозиции мировая общественность?
— И что, ни одного сомнительного отзыва? — как бы удивился Лёва. — Ну, знаешь, как это бывает: вывезли, мол, одно, а спустя полвека подсовывают другое всякое. Компот, понимаешь, сварили хитрый из того-сего и потчуют им народы. Было, к примеру, три Леонардо, а стало два Ван Дейка и один Гварди, или же ещё как-нибудь.
— Я тебя умоляю, Лёвушка, не порть ты себе карму, не нагнетай! — Казалось, Темницкий был настолько удивлён этим сомнительным, если не глуповатым предположением многоопытного искусствоведа, что даже не сделал попытки улыбнуться.
— Ну а как? — не сдавался Алабин. — Те, кто знает работы собрания наперечёт, поди уж, давно поумирали. И что осталось, кроме списка названий, авторов и прикидок по годам? Ксерокопии, что ли? Ну скажи, Женя, ну есть в природе тот, кто сумеет на сегодняшний день предельно внятно восстановить сюжет рисунка, с малыми подробностями?
— Ну-у… — почесал ухо Темницкий, — тут ты, конечно, прав, Алабин, здесь мне тебе возразить нечего. Но только больно уж версия твоя фантастически звучит, не находишь?
— Да мне, если честно, без разницы, — махнул рукой Лёва, — просто хочу, чтобы помехи не случилось. Мне надо, Жень, чтобы мой военный авангард обратно приехал. Вот и всё, чего хочу.
— Ну, за это, брат, не переживай, именно так оно и будет, вот увидишь. Мужик сказал, — он задрал в небо указательный палец и с намёком подмигнул Лёве поочередно левым и правым глазом, — мужик сделал! — И заторопился, глянув на часы: — Всё, Алабин, бывай, свидимся, побежал я, а то бабушка меня уже, наверно, обыскалась, титан ей в обе чашечки.
Вернувшись на Кривоарбатский, Лев Арсеньевич сразу лёг. Ни сегодня, ни в ближайшие дни лекций не было, как не имелось и прочих забот специального назначения. И вообще, в профессиональном отношении январь чаще бывал для него пустым: клиент, измученный за год неподъёмными тратами, расслаблялся, вояжируя по миру и готовясь к новой дурке. И потому оба они, Лёва-первый, правильный и хороший, и напарник его по смежной жизни, нехороший и неправильный Алабян, тоже вполне могли позволить себе лёгкий бриз, который, если бы не эта дурная история, вполне мог бы наполнить их лёгкие безоглядной воздушностью, а мысли — витанием в безоблачном, кислородистом пространстве. Однако ничего такого не хотелось. Хотелось просто лежать и думать. Потому что было о чём.
«Итак… — размышлял Лев Арсеньевич, закинув ноги на подлокотник гостинного ар-нуво начала прошлого века. Диван был красного дерева, обитый тёмно-сине-белым шёлком в полоску. Пару лет назад он принял его за долги от одного не расплатившегося в срок перца, закрыв тем самым спорную тему, но отчасти и нарушив единство бидермейера в своём безукоризненно устроенном с точки зрения стиля жилье. — Итак… — продолжал прикидывать он дела текущие, — мы имеем двенадцать рисованных подложных апостолов и одного фуфлового Шагала. И ещё в распоряжении у нас мёртвая Коробьянкина. Всё. Остальное — общие домыслы плюс непрогнанный спектакль на два героя и одну хромую персону. И чего это нам даёт? — И сам же себе отвечал: — Это лишь подсказывает, что следует искать нечто общее из всего того, что их объединяет. А общим вполне может оказаться либо единый заказчик, как в ДЭЗе, либо же, как версия, один и тот же копиист. Хотя… при чём здесь он? Рисунки-то явно не состаренные. Они истинно старые, к колдунье не ходи. Хотя, если… — Тут он на миг напрягся, поджал под себя ноги и внезапно с новой силой выбросил их на прежнее место. — То есть… Ты хочешь сказать, Алабян…»