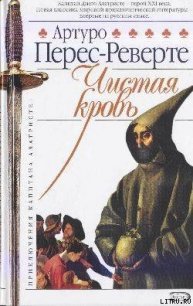Возвращение Заратустры - Алхутов Сергей Михайлович (читать бесплатно книги без сокращений txt) 📗
Неужели всякий из них ведёт себя наилучшим из доступных ему способов? Да! И ещё раз — да!
Но это не только неважно, но и не имеет смысла — пока не станет осмысленным выражение “вести себя”.
Ибо если, говоря о ведущем себя, согласимся, что он же есть ведомый собой, то не проще ли сказать: идёт? Вот, к примеру: он идёт постыдно; или вот ещё: он идёт антиобщественно.
Если же, напротив, признаем, что вести себя означает вести кого-то другого, то не означает ли это, что всякий человек есть два человека? Тогда отчего бы не сказать: я веду его постыдно? Или же: он ведёт меня странно?
Пожалуй, у многих из нас эти двое могут договориться наилучшим из мыслимых образов — таким, что и о том, и о другом заявляем мы: это я. Но даже и при таком договоре — куда ведём мы себя? Откуда?
Впрочем, и ответив на этот вопрос, мы можем ожидать, что некто внутри сущий скажет обоим из нас: где вас двое, там я между вами третий. Ведёт ли один из вас другого туда, куда хотелось бы попасть также и мне?
Что ж, всякий раз, когда я веду себя, есть некто, ведущий меня, есть некто, ведомый первым — и множество попутчиков?
И если “вести себя” означало для Заратустры “бросать курить” — не с попутчиками ли общался Заратустра? Да и не сам Заратустра, но ведущий его, что зовётся волей, и ведомый, что знает, как её осуществить.
А когда “вести себя” означало для Заратустры “курить” — общался ли с кем-нибудь третьим ведущий его? Или, быть может, ведомый его? Разве что в те годы, когда ещё полагал Заратустра по глупости, будто курить постыдно или вредно — в те самые годы общался ведущий его с тем внутри него, кто так полагал. И вот, получилось, что в две стороны вёл себя Заратустра: одна из них — курить, другая — стыдиться либо опасаться.
И вот тогда-то полагал некто внутри Заратустры, что курить плохо. Позже появился также некто, полагающий, будто плохо стыдиться. Ещё и такой был внутри Заратустры, что полагал, будто плохо быть глупым — тем глупым, что по глупости стыдился или опасался курения.
Так чуть было не рассыпался Заратустра на тысячу маленьких и несгибаемых, как не имеющие Памяти гвозди, Заратустр. Так же и всякая общность рассыпается на тысячи отдельных людей.
Ныне учу вас, о несгибаемые: вера в то, что любое поведение есть лучшее из доступного, вера эта есть плавильный горн, и в горне этом всякий из гвоздей становится мягким и жидким. Ибо всякий гвоздь ведёт себя туда, куда направлен остриём, но не острее ли всякого острия текучесть и способность протекать сквозь щели? Не тоньше ли всякого тонкого текучее?
Однако пока не обретена тобою вера в то, что любое поведение есть лучшее из доступного, наилучшее твоё — быть гвоздём и иметь остриё. Ибо и не иметь такой веры есть наилучшее из доступного — пока не подступишь к ней вплотную.
Верящему же в плохое поведение и в то, что можно вести себя плохо, скажу я так: и твоя вера есть лучшее, во что можешь ты верить, и тем она хороша. Разве я торговец, что продам тебе лучшую веру, или проповедник, что обращу тебя к ней? Воистину, верь в своё и будь собой — ничего не нужно от тебя Заратустре.
Вот только есть где-нибудь в мире человек, которому завидует даже и Заратустра. Это тот, о ком не скажешь уже: он ведёт себя, но лишь: он идёт”.
Так писал Заратустра.
О кружевах
“Воля есть вес и смысл, под действием которого устраивается вещество и салат мира кругом и спиралью — а подчас и кружевом. Но воля есть не всегда.
Когда человек ходит перед богом — есть ли у него воля и стремление к богу? Однако нашёлся некто, который, как это говорят, поотстал. И он шёл за богом и думал: вот, поймаю бога и съем, и буду всегда с ним. И думал: скормлю также другим, говоря: сие есть тело добра и зла.
Но бог прогуливается и оставляет добро и зло позади. И кто же теперь перед ним? Но есть некое подобие резинки от эспандера, что натягивается меж человеком и богом и делается тоньше, а узор на нём содержит всё то же число деталей. Имя ему — воля.
И тянет человека воля его, и эта тяга и потуга устраивает вещество и салат мира кругом и спиралью — а подчас и кружевом.
Сперва воля к богу рождает добродетель. Затем исчезает добродетель — тогда воля к ней рождает гуманизм. Когда исчезает гуманизм — воля к нему рождает справедливость. Воля же к утраченной справедливости рождает приличие и ритуал… постойте, это уже написано, и отнюдь не Заратустрой!
Что же тут добавить? — разве что напомнить: те, кто отпал и дважды и трижды отрёкся от бога, создали церковь его. И это — лучшее из доступного!
Всякое кружево и польский коврик есть лучшее из доступного — воистину, даже и Заратустре недоступны коряга и глыба изначального. Оттого люблю я кружева. А ведь есть и такие ритуалы, из которых впору шить кружевное бельё! Но чаще встречал я кружева в деревенских домах.
Кружево плетут мастера — воистину поляк, погоняющий моль на коврике, есть один из них. Оттого кружево столь диковинно, оттого столь совершенно, оттого оно окончательно и обжалованию не подлежит.
Кружево не плетётся творцами, ибо творчество есть отказ от мастерства. Ошибку и пробу делает творец своим ремеслом — отнюдь не совершенство. Скажу больше: творчество есть отказ и от искусства.
Бог не ошибался, говорите вы? Ошибался — ведь он творил мир! Ибо бог не есть искусник, но творец. Впрочем, ваше мнение есть лучшее из доступного: вы ошиблись, значит, сотворили нечто — пусть даже и из бога.
Ещё скажу: сама ошибка есть лучшее из доступного. Но кружево и польский коврик некогда родились из ошибок. О, это было давно! Ныне они окончательны и обжалованию не подлежат.
Было время, когда пришла в мир ошибка назвать нечто злом. И из этой ошибки мастера сплели своё кружево и оплели им будто бы весь мир. О, широко раскинуло оно тогда свои тенёта и щупальца! Кажется, даже воротнички и манжеты в то время были из этого кружева, даже салфетки и скатерти!
Но что не подлежит обжалованию, то нестойко к переменам. И знали бы вы, какую перемену изведал Заратустра, когда увидел лучшее из кружев!
Был дождь, и я попросился на ночлег в деревенский дом, так как уже смеркалось. Но хозяйка ответила мне: “у нас похороны”.
“Что ж, — сказал я, — на них не приглашают, но лишь сообщают; вот, вы сообщили мне о них. И если покойнику будет приятно, что почести ему воздал и Заратустра, впустите меня в дом”.
И хозяйка впустила меня и проводила ко гробу. Ибо гроб стоял в одной из комнат — должно быть, хоронить покойного собирались не сегодня. В других же комнатах были живые.
И крышка гроба была открыта, и тело укрывал кружевной саван. И воистину то было лучшее из кружев и лучшая из почестей умершему!
И хозяйка откинула кружево, и увидел я лицо покойника, и сквозь безобразие смерти углядел пугающую красоту этого лица. И представились мне под кружевом и похоронной одеждой швы, что оставил прозектор, зашивая труп.
И хозяйка закрыла лицо покойному прекраснейшим и окончательным из кружев, и мы прошли в другие комнаты.
И спросил Заратустра: “Кем был покойный при жизни?”
И хозяйка отвечала: “Заратустра по род своему должен знать его как Анхра-Майнью, нам же он был известен как Князь Тьмы”. Собравшиеся назвали и другие имена покойного. И встал старший из них и молвил: “Дьявол умер — пусть живые воздадут ему честь“.
И живые, воздавая честь мёртвому Дьяволу, говорили, как много непонятого могли они списать на него — непонятого в боге. Впрочем, не ведали, что говорят.
Когда же дошла очередь до Заратустры, спросил он: “Воскреснет ли Дьявол на третий день?”
И двое дюжих из присутствующих вывели Заратустру на крыльцо, а затем столкнули с него в грязь и дождь.
И вот, Заратустра вымок и набух и трещит по швам от переполнившей его вести.
Внимайте же: зла нет!
Зла нет! Достаточно ли вы уже могущественны, чтобы жить в мире без зла? Посмеете ли?”
Так писал Заратустра.