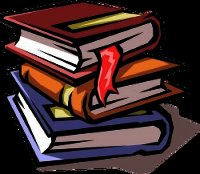Две жизни. Том II. Части III-IV - Антарова Конкордия (читать книги бесплатно полностью без регистрации сокращений .TXT, .FB2) 📗
Что бы ни делал в своём простом дне ученик – если он ежедневно не достигает успеха во внешней форме своих дел, если его чувство такта развивается плохо, вернее сказать, и не развивается, и не повышается, – то в глазах Учителя он мало преуспел в своём развитии, хотя бы и сделал много дел, по мнению людей.
В манере внешней подачи своего дежурства ученик никак не может идти в сравнение с обывателем. Нельзя сразу дойти до обаяния, если оно не дано как дар природы. Но можно бдительно следить за тем, чтобы в доме обязательно были чистота и гармония, одежда всегда была опрятной и со вкусом подобранной, манеры поведения в обществе были приятными и так далее.
Каждая встреча, при которой некто был внешне лицемерно вежлив, а в душе думал: «Скорей бы ты ушёл», будет таким же «выпадом» из дежурства, как и встреча, при которой ты сделал кому-то добро, но при этом был раздражённым или неприятным в обращении.
Третий момент – язвящее слово, которое сорвалось с уст ученика, должно показать ему самому отсутствие у него полного доброжелательства. Следовательно, надо понимать, что в такие моменты человек выпадает не только из ученического дежурства перед Учителем, но и из единения со всеми звеньями невидимых сотрудников.
Как развить в себе бдительное внимание к этим трём наиважнейшим в самодисциплине аспектам?
Если ты будешь заострять своё внимание на этих трёх задачах как на самоцели, тем самым ты внесёшь в свои трудовые будни ненужные отягощающие обстоятельства. Но если ты будешь в своих мыслях просто находиться рядом с Учителем и действовать, всё время ощущая себя в Его присутствии, то никаких специальных задач бдительности тебе прибавлять не придётся.
Кроме того, каждому неофиту в его первых шагах даётся всегда такое большое количество невидимых покровителей, следящих за всеми его действиями, что проходить свои первые шаги ему сравнительно легко.
Перед тобой, мой друг, лежит ещё много рубиконов, но один из них важнее всех. Вот он: ты привык к полной независимости, к полной свободе передвижений, к поискам Истины без всяких направляющих тебя рук. Теперь, если беседы мои всколыхнули в тебе огонь творящего духа и сердца; если ты понял меня и поверил мне – иди за мной, но иди так, как буду видеть и указывать тебе я.
Я объяснял тебе, что закон добровольного беспрекословного повиновения существует в ученичестве не для того, чтобы подавлять волю ученика, но чтобы защищать его от его же чересчур рьяного желания служить всем и каждому и – по недостатку знания – набирать долгов и обязательств свыше меры. Этот закон ограждает ученика от разбрасывания. Он помогает ему стойко и радостно стоять там, где его поставил Учитель, и не бегать от одного места к другому только потому, что кто-то ему прокричал, что он нуждается в его помощи больше другого, и надо всё бросить и бежать оказывать помощь именно ему.
Ученик в своём дежурстве в делах Учителя должен сознавать себя стоящим на страже с примкнутым штыком именно у того порохового погреба, где его поставил Учитель. Он не может перебегать с места на место. Если же он получит указание Учителя переменить место, даже изменить весь метод или путь, – то здесь не нужно ждать указаний мелкого характера. Надо самому понимать, что у порохового погреба не годятся подошвы с гвоздями, а по горам не карабкаются на резиновых подошвах.
В ученичестве нужна наибольшая самостоятельность в активных действиях простого дня. И в этой самостоятельности необходимо научиться развивать все свои качества и способности для действий в обычных условиях, среди людей самых различных положений, характеров, уровней развития.
Сейчас тебе ясно, что такое путь ученического освобождения. Доведи понимание этого до конца. Не обязанность или кабалу монастырского пострига берёт на себя ученик, но вступает в новую, широкую и радостную полосу знаний, которые ему даёт чья-то любовь, услышавшая призыв его чистого сердца.
В следующий раз я скажу тебе о пути скорби».
Запись брата снова обрывалась, и, очевидно, между прочитанными мною и следующими строками прошло какое-то время, так как и чернила, и манера письма были разными.
Я был так поглощён этой записью, так глубоко поражало меня её содержание в связи с тем, что было пережито мною самим, что я не замечал, как летело время, как Эта принимался самостоятельно утолять свой аппетит и как за окном стали спускаться сумерки. Я перевернул страницу и снова стал читать.
«Оставшись один, я не сразу пришёл в себя. Мне всё казалось, что я слышу низкий, с характерным тембром голос моего чудесного гостя.
Странно я себя чувствовал. Вокруг меня в комнате стояла тишина, даже буран за окном, казалось мне, завывал как-то мелодично. Но тишина впервые в жизни показалась мне не мёртвой и молчащей, а говорящей, поющей, сияющей!»
О, как я понимал сейчас эти слова брата Николая! Для меня самого молчание природы недавно стало красноречиво говорящим. Так недавно я понял голос безмолвия, так недавно ощутил жизнь цветов, трав, деревьев…
Моя мысль снова перенеслась к жизни брата-офицера. Я опять подумал, как трудно, вероятно, было ему жить среди такого убогого духовно и умственно окружения. И какими же необычайными духовными силами должен был обладать сам мой брат, чтобы дойти самостоятельно до встречи с Али. А что это был именно Али, в этом я теперь уже не сомневался.
Из слов и действий брата мне вспоминалось много такого, что лишь сейчас я связывал в стройную нить образов. Всё яснее я понимал, кто был брат Николай и как я рядом с ним жил ряд лет, даже не предполагая, возле человека какой высоты я нахожусь…
Я не позволил себе улететь в воспоминания и стал читать дальше.
«Я стал вообще замечать в себе нечто новое: какое-то прозрение, – читал я. – Как будто бы все мои нервы стали восприимчивее, слух тоньше, глаза стали видеть зорче. Это очень странно и удивляет меня самого. После бесед с моим чудесным другом очертания его фигуры остаются надолго запечатлёнными в моей памяти, и мне всё кажется, что я вижу какое-то светлое облако на том месте, где он сидел.
Я начинаю мало сознавать время моего пребывания здесь и замечаю только, что я вдруг прихожу в себя, точно с неба сваливаюсь, потому что немой слуга прикасается ко мне и даёт мне понять жестами и улыбкой, что надо есть или спать, или пройти к коням, или ещё что-либо.
Странно – более странно, чем что-либо другое, – но я стал понимать совершенно точно, что мой слуга совсем не немой. И второе – я стал читать решительно все его мысли, точно его голова связана с моей нитью движущихся образов. В первую минуту меня это поразило, и я остолбенел, смотря в лицо немого. Но, заметив искорки юмора в его глазах и лукавую улыбку, с которой он смотрел на меня, я пришёл в себя.
В эту минуту я отдаю себе отчёт ещё в одной новой открывшейся во мне способности: я твёрдо знаю, когда придёт «Он», мой чудесный друг. И не только знаю, когда придёт, но даже чувствую, когда он только идёт и находится ещё далеко. Но ни разу мне не удалось подметить самого момента появления моего гостя. То ли от слишком напряжённого ожидания я утомлялся и засыпал, то ли я чем-либо рассеивал своё внимание, то ли меня отвлекал своим говорящим молчанием слуга, но каждый раз я вздрагивал, совершенно неожиданно встречаясь взглядом с незнакомцем.
Огонь его глаз всё так же приковывает меня, но теперь я уже не страдаю от невероятного давления его чистоты, которая так же превосходит меня, как недосягаемая чистота и любовь Бога.
И на этот раз я не уследил, когда и как он вошёл: я поднял глаза и увидел его сидящим на обычном месте, но ещё более ярким и ясным, чем накануне. Он сразу стал говорить, очевидно также не нуждаясь в условном приветствии, как не нуждался в нём я, ибо всё моё существо не только жадно ждало его, но я с ним и не разлучался, впитывая в себя брошенные им мне мысли.
«Сегодня я хочу тебе сказать о величайшем из путей ученичества, о пути скорби.