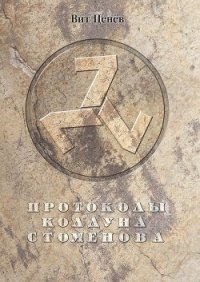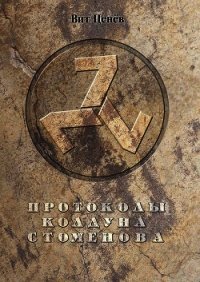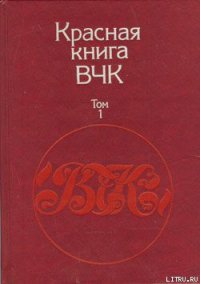Протоколы колдуна Стоменова часть I - Ценев Вит (книги бесплатно txt) 📗
Третья душа человеку принадлежала, что помер от хворей и болезней, беречь тебя будет от недомоганий и нездоровья. Тут наиболее желателен житель царства мертвого, кто с особой досадой от хвори смерть принял, шибко умирать не хотел, но умер все же...
У человека, чья четвертая душа нам надобна, жизнь силою отнята была: или казнен он был, иль повешен, а может, убили его воры или конокрады. Хранит меня душа эта от приговора смертного, от убийц и от замыслов в мою сторону смертных.
Пятая душа — душа утопленника, кто утонул не по желанию своему, а по прихоти моря или стихии. Ладнее всего тот потонувший выходит, кто смерть от воды принял тихим попутчиком при переплыве в земли другие.
Шестая душа тому Андрею принадлежала, который руки на себя наложил. От любви ли несбыточной, от мук каких-то душевных, от отчаяния или страха огромного, разные самоубивцы бывают — и лучше всего здесь будет, если смерть найдешь случайную, пустяковую, глупостную. Чем больше в мире ином человек досаду терпит, что совершил себя убиение, тем ладнее. Будет самым надежным назидателем и сохранителем.
Следующий человек, с чьей душой я в договор вступаю, убит был в войнах больших или малых. Здесь лучше большую войну взять, жестокую, надежней хранитель будет.
Восьмая душа — зверем и лесом хозяин ее погублен был. С этой душой знаешься — ни хищник не тронет, ни гриб — ягода не отравят, а еще узнаешь свойства живого мира тайные — как малиной спелой сгубить можно или как травой ядовитой от недуга вылечить. Лучшим самым здесь будет, если травкой случайной иль ягодой какой умертвился Андрюша мой.
Девятый Андрей колдуном был умерщвлен или магом неведомым — всяким, кто гибели его добился, особые знания используя. Это душа нечастая, долго искал я ее... Знаний истинных немного, много разговоров о всяких якобы знаниях... Нашел я такого Андрюшеньку, Яшка Салаутин его изничтожил, был такой колдун в семнадцатом веке...
Вот так выходит, Сергей Дмитрич, девять покойничков меня охраняют...
Следователь: — Как же ты, Андрей Николаевич, — с такой-то охраной — и здесь очутился?
Стоменов: — А мне здесь опасности нет никакой. Коли была бы, не сидеть нам здесь никогда, мне Андрюша-висельник наперед все рассказал за целую луну.
А ты иронизируешь, старику не веришь... Хошь — верь, хошь — нет, дело твое, а я говорю, что известно мне. Умирать мне своею смертью, другой не будет.
Следователь (официальным тоном): — Нам вместе с материалами дела был предоставлен рапорт, где высказывается мнение, что вы, Андрей Николаевич, подумываете о самоубийстве. Вы не объясните такую точку зрения наших сотрудников, мнение которых мы, безусловно, очень ценим... Следователю показалось...
Стоменов (перебивая, твердо): — Ему показалось... И чего я тебе, Дмитрич, про сохранителей толкую, не пойму. Не слышишь ты меня, что ли?
Следователь: —Я просто спросил.
Стоменов: — Ладно, Сергей Дмитрич, пустое это. Слушай еще историю, которую Никола мне сказывал после войны. Был один такой парень — все его Леха звали, ни фамилии, ни отчества, а так — Леха и Леха, и все тут. Леха в сорок третьем с партизанским отрядом в лесах Белорусских шмыгали, яко волки, немца били нещадно. Как-то сработала недалеко их ловушка, что они немцам устраивали в изобилии, двое отсталых на мине подорвались. Партизаны сбрелись, а немчуры оба живые, руки там оторвало, ноги, но дышут оба, хрипят и в сознании. Леха, недолго думая, подошел да и расколол им головки ихние прикладом. Ну, поплевали все, как делается обычно, когда собаку бешену прибьют, да и поворотились, а Леха говорит, что, мол, хоронить их надо. Брось, говорят мужики Лехе, собакам смерть собачья, а Леха ни в какую — схороню, и все тут... Матюгнулись мужики отрядные, да и в леса пошли, Леху с мертвыми оставили. Схоронил их Леха так, как ему батька еще в детстве покойничков провожать в мир иной заповедовал. Ночь отночевал, а поутру своих нагонять пошел. По следу идет ихнему — так и вышел на хутор, дотла сожженный. Бабу только одну нашел, сидит, венки плетет цветочные. Повела его баба к окраине, кажет на землю сырую, гусеницами танковыми изъезженную, — тут, говорит, голубчики твои, все твое войско. Повязали их ночью, сторожа закололи, а остальных поутру в землю-то живьем — и танком укатали... Девять партизан и четыре сельчанина оставшихся. «Чего ж ты, дура, венки плетешь? — спрашивает Леха, — давай крест им сладим». — «Ты, сынок, — баба говорит, — хошь — крест ставь, хошь — образ, а я всю ночь в лесной воронке сидела, Господа молила, утром глазами своими все это глядела — и как молила, как молила... Ставь, коли хошь, а я веночки плесть буду, ибо нет со мной боженьки...» Вот так, Сергей Дмитрич, Леха жив остался, от смерти страшной ушел, потому как жизнь отбирать не гнушался, но к мертвому уважение имел. По сей день этот Леха здравствует...
Мне восемь аль девять лет было, когда мы с дворовыми на кладбище наше пошли. Ну, дело известное — залезешь на печь и давай истории страшные калякать: про мертвецов, про леших, про домовых и другую нечисть всякую. Каждый рассказчик вовсю старается, чтоб страху побольше нагнать. А опосля — давай друг дружку подзадоривать: айда, мол, на кладбище наше — сдюжим или не сдюжим, и про Николу больно охота узнать, чего он там с волчарой своим делает. Шасть туда — трясемся, девки две маленькие, Никитовские, повизгивают от страху, боятся. Темень страшенная, луна полная, лес шуршит, тени какие-то, звуки разные. Вдруг волк из леса — прыг к нам, встал и щерится, а за ним Никола выходит. Хвать меня за отворот, как самого старшого, к Кривошеевке повернул, толкнул легонько — идите, мол... Много позже, когда голодовал я первые три дня и три ночи, я спросил у Николы, худо бы было, если попали бы мы тогда на кладбище Кривошеевское? Он плечами пожал, говорит равнодушно: «Земля кладбищенская Силу вам дать может, а вы свою, ничтожную, искать пришли, страх свой одолевать. Худа в этом нет, да только и проку никакого»...
Чтобы Силу обрести — надобно удерж всякий познать. Но удерж особенный, магический, наставниками смертными заповеданный. От желаний плотских, от потребностей чрева ненасытного, от слова пустого, от ока бездельного. Будет прок, если жажду свою силой своею сделаешь, а как сделать — никем не сказано, одному лишь Николе ведомо. Сделаешь — царем незримым сделаешься, Силу обретешь сказочную, моря и земли далекие преодолевающую. Но коли не сделаешь, а только сдюжишь, перетерпишь — не будет от этого толку никакого, окромя того, что трудности лихие лучше других переживешь, если придут они в дом твой… А еще — помереть возможно от слабости или погибнуть, когда испытание тебе дается.
Удерж от желаний плотских трудно мне давался. Утром из ковша отопьешь настоя, что Никола настоял и пить по утрам велел, — и в поле, сеяли мы тогда. Работу тяжелую Никола запретил мне. Хожу, семя сею, а самого то в жар, то в холод бросает, тело истома сладостная заволакивает, голова кружится… То ретивость чую одолевающую — кажется: схвачу, сволоку в лес, оприходую — раз, другой, третий, а там будь что будет. То ярость меня душит нечеловечья, ненависть страшная, испепеляющая. То страх нападет, то видения какие-то — аль морды привидятся кореженные, аль бабы какие-то, ненашенские, извиваются, телом голым бахвалятся, с собой зовут… Как сорок дней вышли, сказал мне Никола одно только: «Добре», — и сгинуло все сразу, упал я на землю в беспамятстве и две луны проспал непробудно.
Три дня был удерж, потом — девять дней и девять ночей, потом — тринадцать и сорок. И только в 1944 — 1945 годах здесь, в Софии, Силу принял я большую, триста девяносто дней и ночей плотской жаждой испытуемый. А тогда, после сорока, повел меня Никола в лес с раннего утра июльского. Два дня и ночь еще он вел меня неведомо куда — и остановился внезапно, словно сигнал ему был какой. «Будет тебе, Андрюша, суровое испытание — учти, помереть можешь, сгинуть, волками быть съеденным, медведем подранный. Знаю это, поэтому не неволю — если удумаешь — хорошо, не удумаешь — воля твоя, только отрекусь я от тебя опосля этого». Согласился я, не раздумывая. Достал он тогда из котомки своей коробочку берестяную, дал мне. «Средство, — говорит, — там особое, для тебя изготовленное. Я сейчас уйду, и как только скроюсь за деревьями — ты глаза покрепше закрой и вотри того, что я дал тебе, бровей чуть пониже, затем ляг — и на земле лежи, пока сверчок под ухом не засвербит. Тогда встанешь — и возвращайся домой».