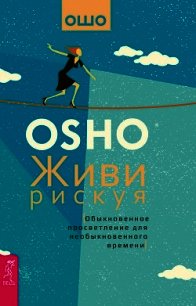За пределами просветления - Раджниш Бхагаван Шри "Ошо" (книга жизни .TXT) 📗
Говорят, что большинство людей осознают, что они живут только тогда, когда они умирают, – поскольку жизнь была такой плоской, такой бесцветной. Она не была танцем, не была красотой, не была благословением; в сердце не было никакой благодарности: «Существование выбрало именно меня, а не кого-то другого. Без меня существованию чего-то недоставало бы. Нет никого, кто бы мог заменить меня; я занимаю уникальное положение, а я никогда не просил об этом, я не заслужил этого. Это настоящий подарок от изобильности существования».
Так случилось, что у Гаутамы Будды была встреча с одним из наиболее разумных императоров того времени. В середине их беседы к ним подошел старый саньясин – ему, должно быть, было лет семьдесят пять, – чтобы коснуться ног Будды. Он попросил императора простить его за то, что он вмешивается в их беседу, но он сделал это по необходимости.
Ни один буддистский монах не может путешествовать ночью; они могут передвигаться между восходом и закатом солнца, а ночью должны оставаться на одном месте.
– Мне велели идти в ближайшую деревню, но я не могу уйти, не коснувшись ног моего мастера. Солнце опускается все ниже, а ваша беседа все продолжается и продолжается – так что, пожалуйста, простите меня.
Гаутама Будда спросил у саньясина:
– Сколько тебе лет?
Император был очень удивлен: что за необходимость спрашивать об этом? Можно просто благословить его и отпустить.
А старый саньясин сказал:
– Простите меня, я пришел слишком поздно. Мне всего лишь четыре года.
Император еще больше удивился и не мог сдержаться. Он сказал:
– Это уж слишком! Этому человеку может быть семьдесят пять лет, или восемьдесят, или семьдесят, но никак не четыре года. Такого просто не может быть!
– Вероятно, вы не знаете, как мы считаем возраст, – сказал Гаутама Будда императору. – Этот человек стал саньясином четыре года назад. Поэтому настоящего брамина, того, кто познал божественное, Брахму, называют двидж, «дважды рожденный». Первое рождение – это лишь возможность для второго рождения. Если второго рождения не случается, то первое рождение бессмысленно.
А саньясину Будда сказал:
– Не беспокойся. У нас есть древняя пословица: «Если человек, который заблудился утром, возвращается к вечеру домой, его не следует считать „сбившимся с пути“». Четыре года – это огромный срок. Даже одна минута осознанности равна вечности.
Так что первое: не беспокойся о пятидесяти восьми годах, которые прошли во сне. Были они или их не было – это не имеет значения; они были подобны надписям, сделанным на воде, – ты продолжаешь их делать, а они продолжают исчезать.
Эти два года, что ты был саньясином, имеют огромное значение – и их значительность зависит не от времени, она зависит от глубины. Можно целую вечность быть поверхностным. А можно за одно-единственное мгновение бездонной глубины или высоты Эвереста достигнуть реализации.
Поэтому первое, что я хочу сказать тебе: не волнуйся о пятидесяти восьми годах, которые были потеряны в странствиях по пустыне. Будь благодарен за эти два года пребывания в саду бога. Теперь от тебя зависит, будет ли каждое мгновение глубоким удовлетворением, глубокой тишиной, радостным танцем… вечностью ликования, ароматом, который не от мира сего… который принадлежит не времени и пространству, а запредельному.
И как я вижу, ты развиваешься в правильном направлении и двигаешься с искренним сердцем… Я слышал твои песни, в них есть сладостная боль, сердечная благодарность. Они сладостны, потому что нет ничего более сладостного, чем вступить в контакт с вечным, безвременным, бессмертным источником жизни.
Быть в контакте с мастером – значит косвенным образом быть в контакте с божественностью существования.
В твоих песнях есть сладость, и в них есть некая боль. Боль – потому, что слова бессильны выразить все то, что тебе хочется выразить. Тебе хочется петь… Твое сердце переполнено этим, но язык не способен это выразить. Твои музыкальные инструменты, какими бы совершенными они ни были, не могут привнести музыку тишины в мир звука. Это два диаметрально противоположных измерения.
Но твоя боль не разрушает красоты этой сладости; она делает ее еще более прекрасной, придает ей глубину. Она свидетельствует о твоем переживании и одновременно о неспособности выразить его. То, что может быть выражено, является мирским. То, что не может быть выражено, – священно.
И все художники – музыканты и поэты, живописцы и танцоры – миллионы лет пытались выразить невыразимое. Даже если они могут дать непрямой намек – просто палец, указывающий на Луну, – это уже большой успех. И тебе это удается.
Пой без всяких сомнений, не беспокойся о том, что тебя сочтут безумцем. Если мир не считает певца безумцем, значит, он вовсе не певец; если танцора не помещают в сумасшедший дом, значит, мир не дал ему свидетельство о таланте.
Все гении кажутся миру безумцами: «Что-то не так с этими беднягами».
Винсент Ван Гог, один из голландских художников, за всю свою жизнь не мог продать ни одной своей картины. Сейчас из тысяч написанных им картин сохранилось только двести, потому что никто не заботился о них. Ван Гог просто раздавал их своим знакомым; никто бы не стал покупать их. Люди боялись даже повесить его картины в своих гостиных, потому что их гости могли бы подумать, что хозяева дома сошли с ума: «Что за картины вы здесь повесили?» Люди брали его картины – чтобы не обидеть его, – благодарили его и бросали его картины в подвал, чтобы их никто не видел.
Теперь каждая его картина стоит миллион долларов. Что случилось за эти сто лет?
Самого Ван Гога посадили в сумасшедший дом, когда ему было всего тридцать два года. И посадили его туда за его картины – от него не было никакого вреда, он не был буйным, он никому ничего плохого не делал. Но всякий, кто видел его картины, был абсолютно уверен в том, что этот человек безнадежно болен. Ему место в сумасшедшем доме. Если он мог написать такие картины, он способен на что угодно…
Например, он всегда писал звезды в виде спиралей. Даже другие художники говорили ему: «Звезды – не спирали!»
Он отвечал: «Я тоже вижу звезды. И я вижу, что они – не спирали, но когда я начинаю писать их, что-то во мне говорит, что звезды – это спирали. Расстояние до них так огромно… Вот почему невозможно увидеть, какая у них форма. И этот голос во мне так силен. Я просто не могу не сделать того, что мне велит мое внутреннее существо».
А сейчас физики узнали, что звезды – это спирали. В мире художников это вызвало шок, потому что только один художник за всю историю человечества имел некую внутреннюю связь со звездами – и этого человека считали сумасшедшим. И именно потому, что его считали сумасшедшим, никто не хотел заказывать у него картины.
Его брат каждую неделю давал ему ровно столько денег, чтобы ему хватило на семь дней. Но он три дня в неделю ничего не ел – потому что, только сэкономив деньги на еде, он мог купить холст, краски и кисти. Живопись для него была важнее жизни.
Когда ему было тридцать три года, он покончил с собой. После того, как его выпустили из сумасшедшего дома, он написал только одну картину, которую там ему не давали писать. Он хотел написать солнце. На эту картину у него ушел один год. Он испортил себе глаза… Палящее солнце, горячее солнце… Целыми днями он смотрел на него – с утра до вечера, от восхода до заката. Он хотел, чтобы его картина заключала в себе все о солнце, всю биографию солнца.
Каждый, кто относился к нему с сочувствием, говорил ему: «Это уж слишком. Достаточно поизучать его один день, – солнце всегда одинаково».
Ван Гог отвечал: «Вы не знаете. Оно никогда не бывает одинаковым. Вы просто не смотрели на него. Я никогда не видел два одинаковых восхода, никогда не видел два одинаковых заката. И я хочу, чтобы моя картина была биографией солнца».
Целый год… с утра до вечера он наблюдал за солнцем… Он испортил себе глаза, но он продолжал писать свою картину.