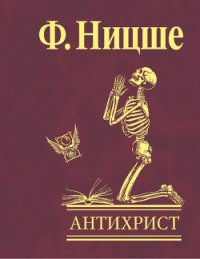Видеть Бога как Он есть - Сахаров Софроний (читаем книги онлайн бесплатно без регистрации txt) 📗
Страдания моего духа были вызваны внешними катастрофами, и я, естественно, отождествлял их (катастрофы) с моей личной судьбой: мое умирание принимало характер исчезновения всего, что я познал, с чем я бытийно связан. И это уже независимо от войны. Моя неизбежная смерть не была лишь как нечто бесконечно малое: «одним меньше». Нет. Во мне, со мною умирает все то, что было охвачено моим сознанием: близкие люди, их страдания и любовь, весь исторический прогресс, вся Земля вообще, и солнце, и звезды, и беспредельное пространство; и даже Сам Творец Мира, и Тот умирает во мне; все вообще Бытие поглощается тьмою забвения. Так тогда я воспринимал мою смерть. Овладевший мною Дух отрывал меня от Земли, и я был брошен в некую мрачную область, где нет времени.
Вечное забвение, как угасание света сознания, наводило на меня ужас. Это состояние сокрушало меня; владело мной против моей воли. Совершавшееся вокруг меня навязчиво напоминало о неизбежности конца всемирной истории. Видение бездны становилось всегда присущим, лишь по временам давая мне некоторый покой. Память о смерти, постепенно возрастая, достигла такой силы, что мир, весь наш мир воспринимался мною подобным некоему миражу, всегда готовому исчезнуть в вечных провалах небытийной пустоты.
Реальность иного порядка, неземного, непонятного, овладевала мною, несмотря на мои попытки уклониться от нее. Я помню себя отлично: я был в житейской повседневности, как все другие люди, но моментами я не ощущал под собою земли. Я видел ее моими глазами как обычно, тогда как в духе я носился над бездонной пропастью. К этому явлению затем присоединилось другое, не менее тягостное: предо мною мысленно возникла преграда, которую я ощутил как свинцовую толстую стену. Ни один луч света, умного света, не физического, как и стена не была материальною, не проникал чрез нее. Долгое время она стояла предо мною, угнетая меня.
Независимо от всего внешнего: войны или болезней и подобных им бедствий, сознавать себя приговоренным к смерти в какой-то день — было для меня несносной мукою. И вот, без того, чтобы я размышлял о чем-либо, вдруг в сердце вошла мысль: если человек может так глубоко страдать, то он велик по природе своей. Тот факт, что с его смертью умирает весь мир и даже Бог, возможен не иначе, как если он сам по себе является в некотором смысле центром всего мироздания. И в глазах Бога, конечно, он драгоценнее всех прочих тварных вещей.
Господь знает мою благодарность к Нему за то, что Он не пощадил меня «и не отступил, все творя, доколе не возвел меня» до видения Царства, пусть еще «отчасти» (ср. начало Литургического канона Иоанна Зл. и 1 Кор. 13, 12). О, ужасы этого благословенного времени! Никто не в силах добровольно пойти на эти испытания. Вспоминаю сейчас того космонавта, который отчаянно взывал к земле спасти его от смерти в пространстве; радио уловило его стоны, но не было ни у кого средств придти ему на помощь. Думаю, что позволительно до некоторой степени провести параллель между тем, что переживал бедный космонавт, с тем, что испытывал я в моменты падения в мрачную бездну. Но мой дух обращался не к земле, а к Тому, Кого я еще не знал, но в Бытии Которого я был уверен. Я не ведал Его, но Он был как-то со мною, обладая вполне средствами для моего спасения. Он наполняет Собою все, но от меня Он скрывался, и я видел смерть не по телу, не в ее земных формах, но в вечности.
Так: «под знаком минуса» раскрывалось во мне глубинное Бытие. Материальный мир терял свою консистенцию, время же — протяженность. Я томился, не разумея совершавшегося во мне. В то время я еще не имел никакого понятия об учении Отцов Церкви, об их опытах. Вследствие столь существенного пробела в моих познаниях я увлекся мистической философией нехристианского Востока. В моем безумстве я предполагал найти в ней исход из ямы, в которую я погружался. Не мало драгоценного времени я потерял из-за этого. Впрочем, много лет спустя, претерпев не однажды отступление от меня благодати за тщеславные помыслы, я иногда думал: великое горе — духовное невежество; но в моем случае именно неосведомленность сделала возможным для меня носить в течение долгих лет излившийся в изобилии на меня дар Бога моего: благодать смертной памяти, которую весьма высоко ценят Святые Отцы. Действительно: когда я встретился с писаниями святых аскетов, воспевавших высоту сего дара, то оказался в опасности утерять усвоившееся мне сознание моего ничтожества.
В том периоде жизни, незабываемом, но совсем не простом и нелегком, я был испытан не раз страшными помыслами: гнева на Создавшего меня. Измученный непониманием происходящего со мною — я вступал в борьбу с Богом; я мыслил о Нем, как о Враждебном Властелине: «Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал» (Пушкин). У всех людей единый природный корень, и поэтому я переносил мои личные состояния на всех. Мой умишко «бунтовал» во имя всех поруганных ненужным даром этой жизни, и я сожалел, что нет у меня такого меча, которым можно было бы рассечь «проклятую землю» (ср. Быт. 3, 17), и тем положить конец отвратительному абсурду... Немало и других идиотских идей приходило мне на ум, но эти две, кажется, были самыми крайними. К счастью, этого рода горечь никогда не проникала глубоко в сердце: там место было занято. Недоведомо где-то в духе оставалась надежда, шедшая дальше всех парадоксизмов отчаяния: Всемогущий не может быть иначе, как благ. Если бы не так, то откуда у меня идея Благого Существа? И мой внутренний слух сосредотачивался на чем-то неосязаемом и вместе реальном.
Никогда не смогу воплотить в слова своеобразного богатства тех дней, когда Господь, не внимая моим протестам, взял меня в Свои крепкие руки и точно с гневом бросил в беспредельность созданного Им мира. Что скажу? Суровым образом, но Он открыл мне горизонты иного Бытия. Мои страдальческие перипетии были подлинно «хождением по мукам».
Война с Германией приближалась к печальному для России концу. За несколько месяцев до сего развязалась уже другая, гражданская, во многих отношениях более тяжкая, чем международная. Видение трагизма человеческого бывания как бы срасталось с моей душой, и смертная память не покидала меня где бы я ни был. Я был расколот странным образом: мой дух жил в той таинственной сфере, для которой я не нахожу выражения словом, рассудок же и душевность жили, казалось, своей привычной повседневностью, т.е. подобно всем прочим людям.
Я торопился жить: боялся потерять каждый час, стремился приобрести максимум познания не только в области моего искусства, но и вообще; много работал как живописец в моем ателье, просторном и спокойном, сделал целый ряд путешествий по России, по Европе; месяцами жил в Италии и Германии, затем более оседло во Франции. Встречался со многими лицами, главным образом причастными к искусству, но никогда, никому не сказал я ни слова о моей «параллельной» жизни в духе: ничто изнутри не толкало меня на такую откровенность. Совершавшееся во мне — происходило от какого-то начала, высшего меня, помимо моей воли, не по моей инициативе: я не понимал происходившего, и, однако, оно было свято для меня.
Красота видимого мира, сочетаясь с чудом возникновения самого видения, — влекла меня. Но за видимою действительностью я стремился ощутить невидимую, вневременную, в моей художественной работе, дававшей мне моменты тонкого наслаждения. Однако настало время, когда усилившаяся смертная память вступила в решительную схватку с моей страстью художника. Тяжба была ни короткою, ни легкою. Я же был как бы полем борьбы, двуплановой: благодать смертной памяти не снижалась до земли, но звала в возвышенные сферы; искусство же изощрялось представить себя, как нечто высокое, трансцендирующее земной план; в своих лучших достижениях дающее прикоснуться к вечности. Напрасны были все потуги: неравенство было слишком очевидным, и в конце победила молитва. Я чувствовал себя удержанным между временной формой бывания и вечностью. Последняя в то время была обращена ко мне своей «отрицательной» стороной: смерть обволакивала все.