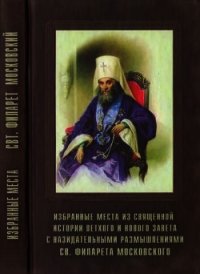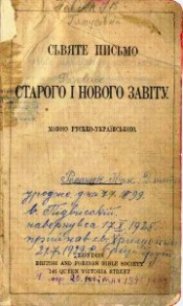История толкования Ветхого Завета - Митрополит (Радович) Амфилохий (книги онлайн полностью txt) 📗
Ветхозаветная экзегеза у сербов
Конец XVIII века и начало XIX века было временем национального пробуждения и освободительных войн в Сербии, как и на Балканах вообще. Это было одновременно и время скрещивания различных духовных влияний и течений, которые через Европу доходили и до нас. Особенно это относится к окрестностям Карловацкой митрополии, а несколько позднее — и к освобожденной Сербии. Сербские земли в это время из–за политической раздробленности находились под различными духовными влияниями. Ближе к югу все еще ощущалось сильное влияние Святой Горы и средневековых преданий периода правления Неманичей, заботливо сохраненных прежде всего в монастырях. После переселения в области за Савой и Дунаем из–за подверженности западной культуре, общественному и интеллектуальному влиянию постепенно происходили значительные изменения во всех областях народной жизни и, естественно, в области богословской мысли. Эти влияния, часто насильно навязанные, смягчались постоянным стремлением сохранить православие, духовными и церковными связями с православной Россией, а также переводами с греческого языка. Но когда мы говорим об этих связях конца XVIII века и всего XIX века с православной Россией и с православными грекоязычных территорий, обычно забывается тот факт, что в то время и греки, и русские были подвержены тем же влияниям.
Целью первых работ по Ветхому Завету этого времени было народное просвещение. Здесь еще не говорится об экзегезе в прямом смысле слова, но в основном — о свободных переводах или упрощенно пересказанных для народа ветхозаветных событиях. Так, например, мы встречаемся со свободно переведенной повестью о Иудифи, которая отсекла мечом голову Олоферну (Буда, 1808). Пересказ этого библейского текста принадлежит Гавриилу Ковачевичу. Очень популярной была и Жертва Авраама, которую перевел с греческого языка В. Ракич. Милован Видакович пересказал Юного Товия (Буда, 1825) и Историю о прекрасном Иосифе. В общем, Буда в это время была значительным сербским культурным центром (здесь в 1804 году напечатана Славянская Библия).
В Буде печаталось и Зерцало игумена Кирилла Пейчиновича (1816), написанное народным македонским языком. Игумен Кирилл был значительной личностью своего времени, своего рода просветителем, но святогорского типа. Получив образование в монастырях и на Святой Горе, он простым способом, но совершенно в соответствии с Преданием излагал народу Евангелие и толковал Священное Писание. Кирилл боролся против суеверных народных обычаев, в частности, и против заклания курбана, принятого под влиянием мусульман. Ссылаясь на закон Моисея, он доказывает, что время кровавых жертв как прообраза прошло и настало время бескровной жертвы. Мы, крещеные Духом Святым, говорил он, понимаем то, что написано в Псалтири. У евреев окаменело сердце именно потому, что они не крещены и глухи и немы — «поэтому их Бог назвал Чифути [512], а нас <назвал> Новым Израилем», т. е. новыми евреями. Чтобы доказать, что бескровная жертва возвышеннее кровавой, он указывает, что курбан остался от Авраама, а бескровная жертва — от Мелхиседека, который выше его и по чину которого Христос «священник вовек» [Евр. 5, 6; 7, 17] [513].
Просветительство типа Кирилла Пейчиновича, подобное по духу просветительству равноапостольного Козьмы Этолийского, было очень мало похоже на просветительство европейского типа, представителем которого у нас был Досифей Обрадович [ок. 1742— 1811]. Если Кирилл основывается на Предании и вырастает из него, то для Досифея оно «какое–то чудовищное создание», чье платье исписано «скорпионообразными и какими–то тайными фигурами» [514]. Находясь под сильным влиянием европейской просвещенности и философии Вольфа [515], Досифей возвращается к началам естественной религии. Он определенно заявляет: «Все законы основаны на законе естества» [516], — а этот закон, в свою очередь, идентичен закону «Христа Спасителя». Человек, соединенный с природой, соединяется с каждой добродетелью и со всеми добрыми и честными людьми, со своим настоящим благополучием, временным и вечным, и с самим Богом [517]. Возвращаясь к природе, он возвращается к естественному Откровению, которое, по его мнению, вечно, неизменно и единственно. Поэтому для него «род и язык» более неизменны, чем «закон и вера». Вера, это сверхъестественное Откровение, Церковь как Предание и как передача библейского Откровения имеет второстепенный и преходящий характер. Самым главным для Досифея является «здравый разум», которому он и предназначает свои советы, чтобы его просветить, пользуясь при этом народным языком для большего успеха. Ему свойственно морализаторство, характерное для его времени вообще, которым, по его мнению, исчерпывается весь закон и пророки [518]. Досифей считает, и такое впечатление складывается из всех его работ, что просвещение ума и облагораживание сердца достигается скорее чтением Памелы и Телемаха [519] Ричардсона [520], повестей Мармонтеля [521] и других подобных книг и басен, чем библейским Откровением. То, что он пишет, он пишет не согласно библейскому Откровению, а «согласно совести и правилам здравого разума»; стараясь искоренить старые обычаи, он говорит: «Укоренение старых обычаев подобно корню огромного дерева; за сколько лет они углубились далеко в землю, столько и потребуется, чтобы их высушить» [522]. Очевидно, что проблематика Досифея больше не является библейской в прямом смысле слова: не отрицая Бога, он возвращается к естественной религиозности, рассматривая ее и на ней основанный человеческий разум как нечто совершенно самодостаточное. Под «старыми обычаями», которые Досифей пытается искоренить, он не подразумевает только народное суеверие: если бы речь шла лишь об этом, Досифей действительно был бы просветителем типа св. Саввы. Своим рационализмом и деистической религиозностью он, осознанно или неосознанно, вырывает из народной души святосаввские корни и «обычаи», пропитанные соками библейского Откровения, из которого произросла вся тогдашняя сербская духовная культура. Он, и это совершенная правда, нигде категорически не отрицает Священное Писание, даже, кажется, можно заключить из его предисловия к «Басням», что ему близок язык ветхозаветных и новозаветных притч (????????), или, как он их называет, «басен», а через них и библейский символическо–аллегорический морализм как экзегетический метод; однако он очень мало касается Библии и остается весь в просветительской литературе того времени и в древних Баснях Эзопа [523].
Гносеологический метод Досифея не основывался на вере. Он учил, что истина достигается через сомнения и исследования [524]. Вера в силу человеческого здравого разума, приближая его к деистическому пониманию того времени, одновременно удаляет его, из–за наивного оптимизма эпохи «просвещенности», от глубины и трагизма библейского видения реальности. Библейское ощущение человеческого падения как источника этого трагизма и греха как помрачения «здорового» разума, как и потребность в очищении от этого помрачения, чтобы разум стал действительно здоровым разумом и познание истины — истинным знанием, — все это совершенно неизвестно Досифею. Никто из младших современников Досифея не ощутил так глубоко опасность, которая скрывалась в его «просветительстве», как Петр II Петрович Негош. В одном из писем он говорит о типе просвещения Досифея следующее: «Просвещение, в котором дурные основы направлены на поругание святыней славянских, — развратно» [525]. Если бы Досифей был одним случайным явлением в нашей культуре, было бы ненужно и говорить о нем, особенно в контексте экзегезы Ветхого Завета. Однако дело обстоит совершенно иначе. Как основатель первого богословского учебного заведения в Сербии и организатор нового сербского просвещения на принципах своей «просвещенности», он во многом определил пути развития нашей новой теологии и культуры вообще. Поэтому искать свою историческую и духовную идентичность и подлинный экзегетический метод и не изучить, с самых основ, наследие Досифея, которое во многом представляет разрыв этой идентичности, было бы бессмысленной работой.