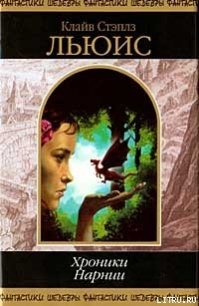Боль - Льюис Клайв Стейплз (бесплатные полные книги .TXT) 📗
Выделив таким образом то, что я считаю главной сутью учения о грехопадении человека, обратимся теперь к этому учению в целом. История, изложенная в Книге Бытия, — это история (полная глубочайшего содержания) о волшебном яблоке познания, но в разработанном учении присущее этому яблоку волшебство совершенно исчезает из виду, и история повествует только о неповиновении. Я испытываю глубочайшее уважение даже к языческим мифам, а еще более глубокое — к историям Священного Писания. Поэтому я не сомневаюсь, что версия, в которой уделяется особое внимание волшебному яблоку и сводятся воедино древо жизни и древо познания, содержит более глубокую и тонкую истину, чем версия, в которой яблоко становится попросту, и исключительно, залогом повиновения. Но я полагаю, что Святой Дух не позволил бы этой последней версии произрасти в церкви и завоевать расположение ее великих докторов, не будь она истинной и полезной в отведенных ей пределах. Именно эту версию я и собираюсь обсуждать, потому что, хотя я и подозреваю куда большую глубину в первой версии, я знаю, что мне, по крайней мере, не под силу проникнуть в эти глубины. Я должен давать моим читателям не самое лучшее в абсолютном смысле, а лучшее из того, что у меня есть.
Итак, в разработанном учении утверждается, что человек, в том виде, в каком его сотворил Бог, был совершенно хорош и совершенно счастлив, но что он ослушался Бога и стал тем, что мы сейчас видим. Многие считают, что современная наука доказала ложность такого предположения. «Сейчас мы знаем», — говорят они, — «что человек не только не пал по сравнению с первобытным состоянием добродетельности и счастья, но напротив, совершил восхождение из состояния зверства и дикости». Похоже, что здесь царит полная путаница. Слова «зверство» и «дикость» принадлежат к печальному разряду тех слов, которые порой употребляются риторически, для выражения укоризны, а порой научно, как описательные термины, и псевдонаучный аргумент против грехопадения основан на смешении этих словоупотреблений. Если говоря, что человек поднялся над звериным уровнем, вы просто имеете в виду, что он физически произошел от животных, то у меня нет возражений. Но отсюда совсем не следует, что чем дальше мы углубляемся в прошлое, тем более зверским — то есть, злобным или гнусным — становится поведение человека. Никакое животное не имеет нравственной добродетели, но неверно полагать, что все поведение животных таково, что, будь оно поведением людей, его следовало бы именовать ."дурным". Напротив, не все животные так плохо относятся к существам своего вида, как люди относятся к людям. Не все так же прожорливы и похотливы, как мы, и ни одно животное не обладает амбицией. Подобным же образом, если вы говорите, что первые люди были «дикарями», имея в виду, что их изделия были немногочисленны и неуклюжи, как и у современных «дикарей», вы, возможно, правы, но если вы имеете в виду, что они «дикари» в том смысле, что они были похотливы, свирепы, жестоки и склонны к измене, вы выходите за пределы имеющихся у вас данных, и это происходит по двум причинам.
Во-первых, современные антропологи и миссионеры куда менее своих предшественников склонны присоединяться к вашему неблагоприятному мнению даже о современном дикаре. Во-вторых, нельзя по изделиям первобытных людей заключать, что они были во всех отношениях подобны современным людям, изготовляющим такие же изделия. Мы должны здесь остерегаться иллюзии, которую, по-видимому, естественно порождает изучение доисторического человека. Доисторический человек, именно в силу своей доисторичности, известен нам лишь по материальным предметам, которые он изготовил — или, скорее, по случайному набору наиболее долговечных из числа изготовленных им предметов. Археологи не виноваты, что у них нет лучших данных, но такая скудость создает постоянное искушение сделать выводы, заходящие дальше, чем мы имеем на то право, предположить, что община, изготовлявшая лучшие изделия, была во всех отношениях лучше. Для каждого очевидно, что такое предположение ложно — оно привело бы к заключению, что подобные слои общества нашего времени во всех отношениях выше аналогичных кругов викторианской эпохи. Вполне возможно, что доисторические люди, изготовлявшие самую плохую керамику, сочиняли самую лучшую поэзию, и нам никогда этого не узнать. И это предположение становится еще более нелепым, если сравнить доисторического человека с современными дикарями. Одинаковая примитивность изделий ничего в данном случае не говорит об умственном развитии и добродетели изготовителей. То, что постигается методом проб и ошибок, непременно вначале будет грубовато, каков бы ни был характер начинающего мастера. Тот же самый горшок, который был бы свидетельством гения его создателя, если бы это был первый горшок, изготовленный во всем мире, через тысячи лет гончарного дела покажет, что его создатель — растяпа. Вся современная оценка первобытного человека основана на низкопоклонстве перед «рукоделием», представляющем собой великий всеобщий грех нашей собственной цивилизации. Мы забываем, что наши доисторические предки сделали все самые полезные открытия, которые когда-либо были сделаны, за исключением хлороформа. Им мы обязаны языком, семьей, одеждой, использованием огня, приручением животных, колесом, кораблем, поэзией и сельским хозяйством.
Таким образом, науке нечего сказать как в пользу, так и против учения о грехопадении. На более философскую трудность указал Н.П.Уильяме, современный богослов, перед которым в большом долгу все, кто изучает этот предмет. Он отмечает, что идея греха предполагает закон, преступаемый грехом, а поскольку на то, чтобы «стадный инстинкт» выкристаллизовался в обычай, а обычай в закон, должны уйти столетия, первый человек, если было существо, которое можно охарактеризовать подобным образом, не мог совершить первого греха. В этом рассуждении предполагается, что добродетель и стадный инстинкт обычно совпадают, и что первый грех был в основном общественным грехом. Но традиционное учение указывает на грех против Бога, акт неповиновения, а не на грех против ближнего. И конечно же, если мы хотим в сколь-нибудь реальном смысле придерживаться учения о грехопадении,.мы должны искать великий грех на более глубоком и вневременном уровне, нежели уровень общественной морали.
Этот грех был охарактеризован Блаженным Августином как результат гордыни, посредством которой тварь (то есть, существо в основном зависящее, принцип существования которого заложен не в нем, а в ком-то другом) пытается обосноваться самостоятельно, существовать для себя. Подобный грех не требует для себя ни сложных общественных условий, ни обширного опыта, ни особого умственного развития. С того момента, как тварь осознает Бога как Бога и самое себя как себя, перед ней открывается жуткая альтернатива: избрать центром Бога или же себя. Этот грех ежедневно совершается маленькими детьми и невежественными крестьянами, равно как и людьми изощренными, одиночками не в меньшей степени, чем членами сообществ — это грехопадение в каждой индивидуальной жизни и в каждом дне каждой индивидуальной жизни, основной грех, стоящий за каждым конкретным грехом. В этот самый момент вы и я либо совершаем его, либо находимся накануне его совершения, либо раскаиваемся в нем. Мы пытаемся, по пробуждении, положить новый день к ногам Бога. Но прежде, чем мы кончим бриться, день становится нашим, и доля Бога в нем ощущается как дань, которую мы должны платить из «своего собственного» кармана, вычет из времени, которое, как мы чувствуем, должно быть «нашим собственным». Человек приступает к новой работе с чувством призвания и, вероятно, первую неделю еще ставит себе целью реализацию призвания, принимая и удовольствия, и огорчения по мере того, как они исходят от Бога, как «случайности». Но в ходе второй недели он уже начинает узнавать, что к чему, а к третьей он уже выделил из всего объема работы свой собственный план для себя внутри этой работы, и когда он имеет возможность ему следовать, он считает, что получает не более положенного ему по праву, а когда не имеет такой возможности, то пеняет, что ему мешают. Любящий, повинуясь вполне бесхитростному побуждению, которое может быть полно доброй воли, равно как и желания, и не обязательно упускает из виду Бога, обнимает свою возлюбленную, а затем, совершенно невинно, испытывает прилив сексуальных удовольствий. Но второе объятие может как раз преследовать достижение этого удовольствия, может быть средством к достижению цели, может быть первым шагом вниз к тому состоянию, в котором человек считает ближнего за вещь, за машину, которую можно употреблять для собственного удовольствия. Таким образом, каждый род деятельности лишается цвета невинности, элемента покорности и готовности принимать предлагаемое. Мысли, сосредоточенные на Боге — вроде той, что занимает нас в это мгновение — продолжаются так, словно они самоцельны, а затем так, словно целью является наше удовольствие от мыслительного процесса, и в конечном счете так, словно целью является наша гордость или слава. Таким образом, весь день напролет, и все дни нашей жизни, мы катимся, скользим, падаем, как будто Бог, для нынешнего нашего сознания, — это гладкая наклонность плоскость, на которой не за что зацепиться. И действительно, наша нынешняя природа такова, что мы неизбежно должны поскользнуться, и грех, поскольку он неизбежен, может быть простителен. Но Бог не мог создать нас такими. Это удаление от Бога, «обратный путь к привычному себе», должно быть, как мы полагаем, результатом грехопадения. Что, собственно, произошло в момент грехопадения, мы не знаем, но если позволено строить догадки, я могу предложить следующую картину — «миф» в сократическом смысле слова (т.е., рассказ о том, что могло бы быть историческим фактом. Не путать с «мифом» в смысле, придаваемом этому слову Нибуром, т.е. символическое представление внеисторической истины), вполне вероятную историю.