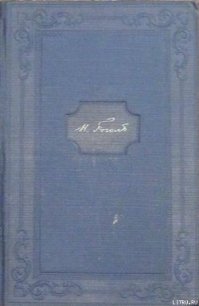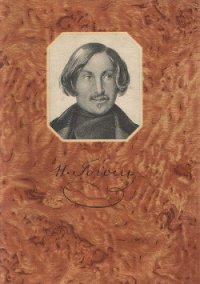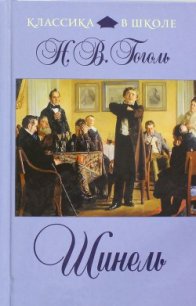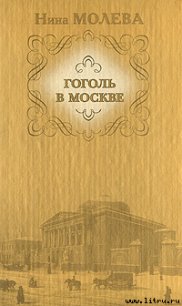Гоголь. Соловьев. Достоевский - Мочульский Константин Васильевич (книга жизни TXT) 📗
В этом гениальном рассказе Достоевский открывает неведомые доселе законы духовного мира. Человеческие души связаны таинственными нитями: одно сознание, как магнетическое поле, притягивает другое, противоположно–дополнительное ему. Трусоцкий — «вечный муж», неразрывно скован с Вельчаниновым, «вечным любовником». Их противоположность основана на сходстве: оба они в плену у женщины. Любовнику Дон Жуану грозит опасность порабощения: он может унизиться до положения «вечного мужа». Наоборот, «вечный муж» — неудавшийся Дон Жуан: он завидует любовнику, как недосягаемому для него идеалу. Вельчанинов видит Трусоцкого и содрогается от ненависти и отвращения, а между тем не может оторваться от его отталкивающего образа. Он узнает себя в кривом зеркале. Так, Раскольников заворожен Свидригайловым, Ставрогин — Петром Верховенским, Иван Карамазов — Смердяковым. Постыдно–комична роль «вечного мужа»: его обожание жены, слепота и дружба с любовником. Но разве не постыдна роль «вечного любовника»? Вельчанинов, очаровывающий девочек на даче Захлебининых пением страстных романсов и покоряющий сердце провинциалки Липочки, унижается не менее Трусоцкого. И муж, и любовник одинаково прикованы к женщине и в этом рабстве страсти теряют личность. В глубине судьба их одинакова. Дон Жуан ненавидит вечного мужа, как угрозу себе, вечный муж мстит Дон Жуану за неудачу своей жизни. У Достоевского идея донжуанизма развивается диалектически, распадаясь на противоположности и поляризуясь в крайностях «вечного мужа» и «вечного любовника».
Когда дуэль кончена и личность мужа окончательно разгадана любовником, Вельчанинов дает характеристику своего противника. Как мог образоваться такой нравственный урод, такой «Квазимодо»? И вот он догадывается. «Этот Квазимодо из Т., — размышляет он, — слишком достаточно был глуп и благороден для того, чтобы влюбиться в любовника своей жены…. Он уважал меня девять лет, чтил память мою и мои «изречения» запомнил. Но любил ли он меня вчера, когда изъяснялся в любви и сказал «ноквитаемтесь». Да, со злобы любил, эта любовь самая сильная».
Ненависть Трусоцкого возникает из оскорбленной любви, обманутая благородная доверчивость превращается в ненасытную злобу.
Вельчанинов продолжает: «А ведь могло быть, а ведь было наверно так, что я произвел на него колоссальное впечатление в Т. — именно колоссальное и отрадное и именно с таким Шиллером в образе Квазимодо и могло это произойти… Любопытно бы знать, чем именно поразил? Право, может быть, свежими перчатками и умением их надевать. Квазимодо любят эстетику, ух, любят… Гм! он приехал сюда, чтобы «обняться со мной и заплакать…». Т. е. он ехал, чтобы зарезать меня, а думал, что едет «обняться и заплакать». А что: если бы я с ним заплакал, он, может, и в самом деле простил меня, потому что ужасно дму хоте лось простить! Ух, как был рад, когда за ставил поцеловаться с собой. Только не знал тогда, чем он кончит: обнимется или зарежет. Самый уродливый урод — это урод с благородными чувствами: я эта по собственному опыту знаю».
Но к концу борьбы Вельчанинов делает неожиданное и странное открытие: он сам такой же «подпольный человек», как и его противник. И в этом они связаны; при всем различии — роковым образом схожи. В каждом из них, как в зеркале, отражается уродливый образ другого. Вельчанинов признается Павлу Павловичу: «Оба мы порочные, подпольные, гадкие люди». Разве любовник не страдает тем же раздвоением, что и муж, разве и он не сознает всей мерзости своей грязной и праздной жизни, понимая в то же время, что эти «слезные раскаяния» совершенно бессмысленны?
Так тема донжуанизма сплетается с темой «подполья» и мистическая связанность человеческих сознании раскрывается в двух планах.
Достоевский был прав, сообщая Страхову, что «сущность» его рассказа та же, что и в «Записках из подполья». «Моя всегдашняя сущность», — прибавлял он. В чем состоит эта «сущность» — мы теперь знаем: произведения Достоевского суть история человеческого сознания в его трагической раздвоенности.
В конце 1868 года, во время мучительной работы над последней частью «Идиота», Достоевский задумывает новый «огромный роман». Он сообщает Майкову (11 октября 1868 г.): «Здесь у меня на уме теперь огромный роман, название ему «Атеизм» (ради Бога, между нами), но прежде, чем приняться за который, мне нужно прочесть чуть ни целую библиотеку атеистов, католиков и православных… Лицо есть: русский человек нашего общества и в летах, не очень образованный, но и не необразованный, не без чинов, вдруг, уже в летах, теряет веру в Бога. Всю жизнь он занимался одной только службой, из колеи не выходил и до 45 лет ничем не отличался. (Разгадка психологическая: глубокое чувство; человек и русский человек.) Потеря веры в Бога действует на него колоссально (собственно действие в романе, обстановка — очень большие). Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по славянам и европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам; сильно, между прочим, подается на крючок иезуиту пропагатору поляку: спускается от него в глубину хлыстовщины и под конец обретает и Христа, и русскую землю, русского Христа и русского Бога. А для меня так: написать этот последний роман, да хоть бы и умереть — весь выскажусь…»
Замысел «последнего романа» — религиозный; потеряв веру, русский человек в поисках своих знакомится со всеми разновидностями религиозного опыта (атеисты, славянофилы, западники, изуверы, монахи, православные священники, католики иезуиты, хлысты), и, наконец, обретает «русского Христа». «Атеизм» никогда не был написан, но идея его в различных преломлениях осуществилась в «Бесах», «Подростке» и «Братьях Карамазовых». К герою «Атеизма» близки потерявшие веру «богоискатели» Ставрогин и Версилов и обретший русского Христа Алеша Карамазов.
25 января 1869 г. писатель сообщает С. А. Ивановой: «Тема «Атеизм». (Это не обличение современных убеждений, это другое и поэма настоящая)… Два–три лица ужасно хорошо сложились у меня в голове, между прочим католического энтузиастасвященника (вроде St. Franсois Xavier)… Если я не напишу его, то он меня замучит…»
Черновые заметки к «Атеизму» очень скудны. Личность героя едва намечена: он — ростовщик, один из многочисленных у Достоевского носителей идеи «Скупого рыцаря». Вдруг с ним происходит духовный переворот. «Так жить нельзя, но куда пойти?» Он решает переделать себя: «Нужен упорный труд для самовоспитания… Нужен труд ужасный, ибо я страстный ростовщик и сребролюбец», — говорит он. И автор прибавляет: «Помешался на самообладании… Мысль о постепенном самосовершенствовании в подвигах святых поражает его (веры нет), он хочет самосовершенствоваться (берется за подвиги и падает разом). Самосовершенствование помаленьку. Тогда полюбишь природу и найдешь Бога». Он втайне делает добрые дела. Намечаются основные линии фабулы: разбойник Кулишов убивает не то его отца, не то его жену. Он берет вину на себя. «Ростовщик говорит невесте: бросить имение и идти искушаться в страдании, ибо я не атеист, а верую. Она ему: если пойдете, и я с вами. Тогда он, не веря в награду, если пойдет (ибо атеист), решает расстаться с имением иначе, т. е. застрелиться. Суд за жену спасает его, и он идет на страдание, в Сибирь с радостью».
Так набрасывается финал: спасение через подвиги, обретение веры через страда ние; судьба ростовщика отдаленно напоминает судьбу Мити Карамазова. В набросках к «Атеизму» встречаются: убийца Кулишов, который в черновике к «Житию великого грешника» превратится в Куликова, а в «Бесах» — в Федьку каторжного; хромоножка (горбушка) и капитан (их убивает Кулишов) — прообразы Марии Тимофеевны и капитана Лебядкина в «Бесах», и, наконец, князь, красавица и воспитанница — будущие Ставрогин, Лиза и Даша. Дальше этой первоначальной стадии замысел не развился. Автор был увлечен другой работой и не возвращался к своей идее до конца 1869 года. В декабре возникает новый проект, более грандиозный, и поглощает предыдущий план. Идея «Атеизма» растворяется в идее «Жития великого грешника». 14 декабря 1869 г. Достоевский пишет С. А. Ивановой: «Я ему («Русскому вестнику») назначаю нечто поважнее. Это роман, которого первый отдел только будет напечатан в «Русском вестнике». Весь он кончится разве через пять лет и разобьется на три, отдельные друг от друга, повести. Этот роман — все упование мое и вся надежда моей жизни не в денежном одном отношении. Это главная идея моя, которая только теперь, в последние два года, во мне высказалась. Но чтоб писать — не надо бы спешить. Не хочу портить. Эта идея — все, для чего я жил. Между тем, с другой стороны, чтобы писать этот роман, мне надо бы быть в России. Например, вторая половина этой первой повести происходит в монастыре. Мне надобно не только видеть (видел много), но и пожить в монастыре…»