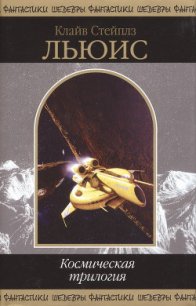Чудо - Льюис Клайв Стейплз (читать книги онлайн без сокращений .txt) 📗
Все это кажется мифом современному человеку, на самом же деле это философичней любой теории, утверждающей, что Бог, сошедший в природу, непременно оставит ее не меняя, а прославить хотя бы одно создание можно, не прославляя всей системы. Бог ничего не упраздняет, кроме зла; Он не творит добра, чтобы упразднить его. С природой Он соединился навеки, Он не выйдет из нее, и она будет прославляться, как того требует дивный союз. Весна коснется всех уголков земли, ведь и круги от камушка, брошенного в пруд, расходятся до самых его краев. Вопрос о том, «самый ли главный» человек в этом действе, похож на детский вопрос: «А кто больше всех?» Такие вопросы Бог оставляет без ответа. Да, с человеческой точки зрения кажется, что воссоздание живой и даже неодушевленной природы — лишь побочный продукт нашего искупления; а вот с точки зрения нечеловеческой искупление лишь предшествует более полной весне, и, попустив человеку согрешить, Бог имел в виду и эту высокую цель. Обе позиции верны, если не употреблять слова «просто». Когда всеведущий Бог действует в природе, где совершенно все связано одно с другим, нет случайностей, нет «побочных продуктов», нет отходов, все вытекает из начала. Второстепенное с одной точки зрения — главное с другой. Ни одну вещь, ни одно событие нельзя назвать высшими, главными, как бы запрещая им быть последними, низшими. Быть главным значит и быть последним, быть в самом низу — значит быть выше всех. Хозяева — те, кто служит; Бог омывает ноги людям.
Поэтому я не думаю, что Бог воплощался не раз, спасая множество Своих созданий (как предположила Алиса Мейнел в очень хороших стихах). Образ очереди здесь не подходит. Если согрешил не только человек, те, другие создания, видимо, тоже будут искуплены; но Вочеловечение уникально в драме всеобщего искупления, а у «тех, других» — свои уникальные события, тоже необходимые для всего процесса, и каждое из них можно рассматривать как кульминацию. Для тех, кто во втором действии, третье будет эпилогом; для тех, кто живет в третьем, второе окажется прологом. Правы и те и другие, если не добавлять слова «просто» и не считать, что и то и другое одинаково.
Сейчас нам пора заметить, что христианская доктрина учит особому отношению к смерти. Обычный человеческий разум выбирает одно из двух отношений. Можно считать, как и стоики, что смерть ничего не значит и ужасаться ей нечего. Можно считать, как и считают в простой беседе и в современной философии, что смерть — страшнейшее из зол (правда, лишь один Гоббс построил на этом основании целую систему). Первый взгляд просто отрицает, второй просто подтверждает нашу инстинктивную тягу к самосохранению; и христианство не связано ни с тем, ни с другим. Учение его сложнее. С одной стороны, смерть — победа сатаны, возмездие за грех, последний враг. Христос плакал над Лазарем и скорбел в Гефсимании, ибо жизнь жизней, обитавшая в Нем, гнушалась этой крайней гнусностью не меньше, чем мы, а больше. С другой стороны, мы крестились в смерть Христову, исцеляющую грех. Как теперь говорится, смерть амбивалентна: она — грозное оружие и Господа и сатаны, она свята и нечестива. В ней — и наша худшая беда, и наша высшая награда и надежда. Христос решил победить ее — и ею побеждал, поправ смертью смерть.
Нам не под силу проникнуть в глубь этой тайны. Если знакомый нам принцип спуска-восхождения и впрямь присущ всей реальности, в смерти сокрыта тайна тайн. Однако нет необходимости говорить о ней на высшем уровне — нам все равно не постигнуть, как Агнец был предназначен для искупления до создания мира. Не нужно и говорить о ней и на низшем уровне — смерть организмов, не разнившихся в личность, нас не касается, и к ней действительно применимо безразличие стоиков. Но христианское отношение к смерти нельзя обойти молчанием.
Христиане считают, что смерть— порождение греха. До грехопадения человек был защищен от нее и будет защищен после искупления в новой жизни послушной ему природы. Учение это бессмысленно, если человек — просто один из организмов (правда, в этом случае все учения бессмысленны). Оно возможно, если человек — существо двусоставное, как бы организм в симбиозе со сверхъестественным духом. Как ни сложно это для тех, кто склонен к природоверию, нынешние отношения между этими составными частями извращены, патологичны. Теперь дух способен отбивать постоянные атаки природы (и физиологические, и психологические) лишь в постоянном бдении, и все же она неизменно побеждает его. Рано или поздно она сдается постоянному разложению, подтачивающему плоть. Но и организм недолго торжествует — он вынужден сдаться физической природе и раствориться в неорганическом мире. Христиане считают, что так было не всегда. Когда-то дух был не осажденным гарнизоном, с трудом защищавшимся от враждебной природы, а полноправным хозяином, царем, умелым наездником или лучше сказать, человеческой частью кентавра. Умереть человек не мог; конечно, это было постоянное чудо, но такие же чудеса мы видим и сейчас — например, когда мы думаем, атомы мозга или некие движения психики делают то, чего им не сделать «самим по себе», Христианская доктрина была бы нелепой, если бы нынешние отношения между духом и природой были совершенно ясны и четки. Но таковы ли они?
Они такие странные, что только привычка примиряет нас с ними и только христианство объясняет их. В сущности, дух и природа ведут войну, но роли их разные. Природа, обуздывая дух, мешает ему; дух, обуздывая природу, ей помогает. Мысль не портит мозга, нравственная воля не разрушает чувств — она обогащает их, они становятся крепче, как борода от частого бритья, и глубже, как река, одетая в камень. Тело разумного и чистого человека лучше, чем тело глупца или развратника, и удовольствия его куда радостней, ибо рабы своих собственных чувств обречены своими хозяевами на голодную смерть. Все это похоже не на войну, а на мятеж, где низший, восставая против высшего, губит и его, и себя. А если так, естественно подумать, что было время и до мятежа, и придет победа над мятежниками. Когда же мы допустим, что дух с организмом — в ссоре, мы сразу получим подтверждение оттуда, откуда мы его не ждали.
Почти все христианское богословие можно вывести из двух положений: а) люди склонны к грубым шуткам и б) смерть наводит на них особый, жуткий страх. Грубые шутки свидетельствуют о том, что мы — животные, которые стыдятся своего животного начала или хотя бы смеются над ним. Если бы духи плоть (организм) не были в ссоре, этого быть не могло бы. Однако нелегко представить себе, что так оно и было, — нелегко представить себе существо, которое изначально гнушается самим собой. Собаки не видят ничего смешного в том, что они — собаки, и ангелы, наверное, не видят ничего смешного в том, что они — ангелы. Не менее странно относимся мы и к смерти. Глупо говорить, что мы не любим трупов, потому что боимся духов. С таким же правом можно сказать, что мы боимся духов, потому что не любим трупов, — ведь страх перед привидением в немалой степени связан с отвращением к гробу, савану, мертвенной бледности и источенной плоти. На самом же деле нам ненавистно то, без чего не было бы понятий и трупа, и привидения: мы чувствуем, что нечто единое делить нельзя, и потому каждая половина нам отвратительна. Поборники природы объясняют и стыд, и отвращение к мертвым, но эти объяснения недостаточны. Они отсылают нас к древним табу и суевериям, как будто бы суеверия и табу — вещи вполне естественные. Но если мы согласимся с христианством, что человек был некогда един, а нынешнее разделение неестественно, все встанет на место. Вряд ли доктрина эта создана нарочно, чтобы объяснить и нашу любовь к Рабле, и нашу любовь к Эдгару По. Однако она их объясняет.
Для верности замечу, что ваше отношение к грубому юмору или к ужасам здесь не важно. Вы можете их и не любить. Вы можете считать, что преображенный человек избавится и от тех, и от этих плодов грехопадения. Однако, если в нынешнем своем виде он не чувствует ужаса или стыда, он не выше человека, а ниже.
Итак, наша смерть — порождение греха и победа сатаны. Однако она — и спасенье от греха, лекарство Божие для нас и орудие против сатаны. В сущности, это не так уж странно. Любой хороший генерал или шахматист использует самое сильное оружие, которое есть у противника, и ставит его в центр своего плана. «Возьми ладью, если хочешь. А теперь я пойду так… так… и мат в три хода». Нечто подобное происходит и с нашей смертью. Не спешите возразить, что такие сравнения недостойны столь высокой темы; если мы от них откажемся, сознание наше заполнят незаметные нам самим образы из мира механики и минералов.