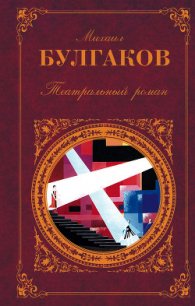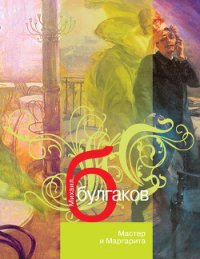Свет невечерний. Созерцания и умозрения - Булгаков Сергий Николаевич (читать книги без .TXT) 📗
Таково гносеологическое значение мифа: параллельно с дискурсивным мышлением и наукотворчеством, рядом с художественным творчеством стоит религиозное мифотворчество как особая, самозаконная область человеческого духа; миф есть орудие религиозного ведения. Само собою разумеется, то, что отлагается в сознании в форме мифа, вступая в общее человеческое сознание, затрагивает все способности души, может становиться предметом мысли, научного изучения и художественного воспроизведения. Но остов религиозного мифа, существенное его содержание не создается мышлением и не творится воображением, — он рождается в религиозном опыте. Содержание мифа относится к области бытия божественного, на линии соприкосновения с человеческим. Возможно прозрение в божественный мир и чрез оболочку эпирического, изнутри. В таком случае человеческая история, не переставая быть историей, в то же время мифологизируется, ибо постигается не только в эмпирическом, временном выражении своем, но и ноуменальном, сверхвременном существе; так наз. священная история, т. е. история избранного народа Божия, и есть такая мифологизированная история: события жизни еврейского народа раскрываются здесь в своем религиозном значении, история, не переставая быть историей, становится мифом.
Но единственный в своем роде пример такого соединения ноуменального и исторического, мифа и истории, несомненно представляют евангельские события, центром которых является воплотившийся Бог — Слово, Он же есть вместе с тем родившийся при Тиверии и пострадавший при Понтии Пилате человек Иисус: история становится здесь непосредственной и величайшей мистерией, зримой очами веры, история и миф совпадают, сливаются через акт боговоплощения.
Миф возникает из религиозного переживания, почему и мифотворчество предполагает не отвлеченное напряжение мысли, но некоторый выход из себя в область бытия божественного, некое богодейство, — другими словами, миф имеет теургическое происхождение и теургическое значение [192]. При этом мифотворчество есть не единичный, но многократно повторяющийся акт. По своей теургической природе миф имеет необходимую связь с культом как системой сакральных и теургических действий, богодейством и богослужением. Отсюда первостепенное значение культа для религиозного сознания, и не только практическое, но и теоретическое, даже гносеологическое. Культ есть переживаемый миф, — миф в действии. Отсюда универсальное значение богослужения, культа во всякой религии, ибо его живая, реальная символика есть не только средство для упражнения благочестия, но и сердце религии, и око ее, — активное мифотворчество. Иконоборческие вкусы нашего века, связанные с его абстрактностью и рационализмом, совершенно затемнили для современного человека, привыкшего с горделивым и слепым пренебрежением произносить слово обряд, религиозное и религиозно–гносеологическое значение культа. Это зависит все от того же основного греха в понимании символизма вообще и культа в частности — антропоморфического субъективизма или психологизма. Такое понимание культа приводит к тому, что в его символическом действе видят лишь произвольно установленные аллегорические символы, или театральные жесты, возбуждающие известное настроение или выражающие известную идею (почти такое значение получил обряд и в современном протестантизме, где даже евхаристия понимается как некая символическая аллегория). Богослужение получает при таком понимании значение религиозного спектакля, в котором «представляются» дидактические пьесы (и в изобилии произносятся поучения и проповеди). Утрата вкуса к эстетике культа делает, к тому же, эти «представления» утомительными и непонятными, рационализм объявляет войну культу за его пышность, красоту, мнимую театральность (таковы господствующие настроения всей реформации, особенно кальвинизма, пуританизма, квакерства). В культе видят или театральные церемонии, или же «языческий» магизм, «мистагогию» [193] (достаточно почитать современных протестантских богословов, напр., хотя бы историю догматов Гарнака). Православие, как церковь литургическая по преимуществу, в этом отношении подвергается особенным нападениям, даже сравнительно с католичеством, имеющим, при большей пышности культа, сравнительно не столь богатую литургику.
Чтобы понять значение культа, нужно принять во внимание его символический реализм, его мифотворческую энергию: для верующих культ не есть совокупность своевольно избранных символов, но совершенно реальное богодейство, переживаемый миф или мифологизирование действительности. Правда, оно ограничено местом (храм, священные места), предметами (святыни) и временем (богослужение, священные времена), оно образует поэтому лишь теургические точки на линии времени, но эта частичность ведь вообще соответствует природе рели
гии: хотя религия стремится иметь Бога как «всяческая во всех», слить трансцендентное и имманентное воедино и тем преодолеть их взаимную полярность, но она и возникает именно из этой напряженности и существует только ею и вместе с нею, и в этом смысле религия есть некоторое переходное состояние — она сама стремится себя преодолеть, сама ощущает себя «ветхим заветом». Когда Бог станет «всяческая во всех», не будет религии в нашем смысле, станет не нужно уже воссоединять (religare) разъединенного, не будет и особого культа, ибо вся жизнь явится богодейственным богослужением. Недаром в Апокалипсисе читаем о Новом Иерусалиме, сошедшем с неба: «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель — храм его и агнец» (Апок. 21:22). Культ создает предварение и частичное переживание божественного в эмпирическом, притом, как и все в религии, не отвлеченно, не «вообще», но окачествованно, конкретно, в связи с определенным мифом — догматом. Поэтому богослужение, культ есть живая догматика, мифы и догматы в действии, в жизни. Отсюда понятна всеобщая распространенность культа, ибо нет религии без культа, это можно выставить как аксиому; и разнообразию религий соответствует и разнообразие культов, а миграция религий сопровождается и миграцией культов. Вместе с тем культ есть и средство постоянного догматического поучения, оживления догматических истин. Можно сказать, живо и жизненно в религии только то, что есть в культе, а отмирает или нежизнеспособным является то, чего нет в культе.
В центре богослужения, очевидно, стоит молитва, значение которой для мифотворчества ясно из предыдущего. Молитвенная жизнь получает развитие и выражение в литургическом творчестве, в котором церковное предание накопляет драгоценные перлы молитвенной поэзии и воодушевления. Отсюда понятно первостепенное значение вообще литургики — церковных песнопений, молитв, обрядов, для мифотворческого самосознания: такое же значение имеют и другие стороны символики культа, кроме выражаемой в слове. На первое место здесь следует поставить иконографию; помимо религиозного значения иконы, как таковой, этого мифа–вещи, в которой эмпирическая вещность таинственно соединяется с трансцендентной сущностью, она всегда имеет вполне определенное содержание, это есть мифология в красках, камне или мраморе. Отсюда такое первостепенное значение иконографии для развития религиозной жизни и самосознания, одинаково как для христианской, так и для внехристианских религий. Иконоборчество и упадок иконографии большей частью знаменуют собой и упадок религии. Вообще, миф завладевает всеми искусствами для своей реализации, так что писаное слово, книга, есть в действительности лишь одно из многих средств для выражения содержания веры (и здесь выясняется религиозная ограниченность протестантизма, который во всем церковном предании признает только книгу, хочет быть «Buch–Religion» [194]).
Наряду с литургикой и иконографией следует поставить символические действия, имеющие теургическое значение: чин богослужения, жертвы, таинства. В богослужебном ритуале, естественно возникающем в каждой религии, символически переживается содержание мифа, догмат становится не формулой, но живым религиозным символом. Самое центральное место в культе занимают, конечно, таинства. Таинственный характер, согласно указанному, принадлежит, строго говоря, всему богослужению, однако эта таинственность сгущается и, так сказать, кристаллизуется в отдельных актах, которые и составляют таинства в собственном смысле. Таинство отнюдь не означает собою сообщения каких–либо тайн или секретов и не имеет никакого отношения к «сокровенному знанию», оккультизму и магии. Таинство представляет собой столь же необходимый и даже, можно сказать, гносеологически неустранимый атрибут религии, как и молитва; поэтому, помимо их религиозного постижения, следует понять и этот их гносеологический смысл. Религия вытекает из чувства разрыва между имманентным и трансцендентным и в то же время напряженного к нему влечения: человек в религии неустанно ищет Бога, и небо ответным лобзанием приникает к земле. Чтобы была возможна религия не только как жажда и вопрос, но и как утоление и ответ, необходимо, чтобы эта полярность, эта напряженность иногда уступала место насыщенности, чтобы трансцендентное делалось ощутимым, а не только искомым, приобщало собой имманентную действительность. Таинственный элемент в таинстве и заключается в этом жизненном общении с тем миром, который остается для нас закрытым, причем здешний мир ощущается тогда как вместилище того, другого мира; короче, таинство есть переживание трансцендентного в имманентном, сообщение «благодати» творению в определенных таинственных актах. И поскольку таинству присуща эта черта, очевидно, в общем процессе мифотворчества оно составляет самую интенсивную точку. Понятно все принципиальное различие таинства от «магизма»: магия есть расширенная, утонченная и углубленная мощь человека над природным миром помощью высшего его знания, магия есть то же, что и наука, лишь на иной ступени, с иными методами. Как и она, магизм ограничивается областью имманентного, он космичен · и натурален, в нем нет никакой «благодати» в собственном смысле этого слова, помимо естественной, разлитой во всем мире; и он человечен, поскольку он всецело опирается на мощь человека, на его силу и энергию. Напротив, таинство всецело основано на благодати, осуществляется излиянием трансцендентного, сверхприродного начала в мир природный. Этим признаком различаются истинные таинства и ложные, представляющие собою не что иное, как разновидность магизма (природные таинства). Христианину надлежит верить, что в языческом мире хотя и живо ощущалась потребность в таинстве, ибо она не устранима из религии по самому ее существу, и хотя она утолялась по–своему [195], но не было таинств истинных, «питающих в жизнь вечную», которые могли явиться лишь в христианстве, после воплощения Бога–Слова, давшего Свою Плоть и Кровь в живот вечный. Их предварения были уже в ветхозаветной церкви Израиля.