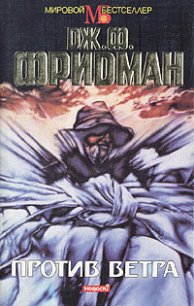Совесть против насилия: Кастеллио против Кальвина - Цвейг Стефан (книга бесплатный формат .TXT) 📗
Вместе с тем были слышны голоса и иного рода. Крупный правовед того времени Пьер Буден публично высказал свое суждение на этот счет: «Я придерживаюсь точки зрения, что Кальвин не имел права возбуждать уголовное преследование из-за спорных религиозных вопросов». Ужасались и возмущались не только свободомыслящие гуманисты всей Европы; даже в кругах протестантского духовенства росло чувство протеста. Всего в часе езды от ворот Женевы, защищенное от ищеек Кальвина лишь покровительством Берна, духовенство Ваадта с церковной кафедры клеймило действия Кальвина против Сервета как антирелигиозные и незаконные, и даже в своем собственном городе Кальвин вынужден был сдерживать критические настроения с помощью полиции. Так, бросили в темницу женщину, открыто заявившую, что Сервет был мучеником во имя Иисуса Христа, и книгопечатника, утверждавшего, что магистрат осудил Сервета в угоду одному-единственному человеку. Некоторые выдающиеся иностранные ученые демонстративно покинули город, в котором не чувствовали себя в безопасности, с тех пор как свободомыслию там стала угрожать подобная духовная деспотия. И скоро Кальвин поймет, что мученическая смерть Сервета представляет для него гораздо большую опасность, нежели его труды и его жизнь.
Нетерпеливое, чуткое ухо Кальвина улавливало любое возражение; не помогало и то, что запуганная Женева остерегалась высказываться открыто; через окна и стены доходило до Кальвина с трудом сдерживаемое волнение. Но дело сделано, его не поправить, и поскольку Кальвин не мог уйти от всего этого, ему больше ничего не оставалось, как открыто встать на защиту своих деяний. Незаметно Кальвин, начавший с нападения, перешел к обороне. Все друзья единодушно поддерживали его во мнении, что настало время, когда, наконец, нужно оправдать это сенсационное сожжение; и, собственно, не по своей воле Кальвин решился все-таки на апологию своих деяний и на «разъяснение» миру проблемы Сервета, которого он сам предусмотрительно убил. Совесть Кальвина в отношении дела Сервета не была чиста; а с нечистой совестью пишется плохо. Поэтому его сочинение «Защита истинной веры и Святой Троицы от ужасных заблуждений Сервета», написанное, как выразился Кастеллио, «руками, еще обагренными кровью Сервета», было одним из самых слабых его произведений. Сам Кальвин признавался, что состряпал его «tumultuarie» [67], то есть нервно и в спешке; и сколь неуверен он был в этой вынужденной защите, доказывает тот факт, что он заставил подписаться под своими тезисами все женевское духовенство, чтоб не быть в ответе одному. Ему явно не хотелось прослыть непосредственным убийцей Сервета, и потому в его сочинении довольно беспорядочно переплелись две противоположные тенденции. С одной стороны, Кальвин, напуганный всеобщим негодованием, хочет свалить всю ответственность на «власти», с другой — должен доказать, что магистрат поступил правильно, уничтожив такое «monstrum» [68]. Стремясь прежде всего представить самого себя в высшей степени милосердным человеком, убежденным противником любого насилия, этот искусный диалектик наполняет добрую половину книги воплями об ужасах католической инквизиции, которая осуждает верующих без защиты и казнит их самым жесточайшим образом. («А ты? — скажет ему позднее Кастеллио, — кого ты дал в защитники Сервету?») Далее Кальвин озадачивает изумленного читателя сообщением о том, что он втайне «неустанно пытался вернуть Сервета на путь истинный» («Je n'ai pas cesse de faire mon possible, en secret, pour le ramener a des sentiments plus saints» [69]); собственно, только магистрат, невзирая на склонявшегося к снисхождению Кальвина, настоял на смертном приговоре, да и к тому же особо жестоком. Но эта мнимая забота Кальвина о Сервете, убийцы о жертве, была, очевидно, слишком «тайной», чтоб хоть одна живая душа поверила этой на ходу придуманной легенде, и полный презрения Кастеллио определяет истинное положение вещей: «Первым твоим наставлением была хула, вторым — тюрьма, которую Сервет покинул только для того, чтобы в муках заживо сгореть на костре».
В то время как Кальвин одной рукой сбрасывает с себя ответственность за муки Сервета, другой он дарует «властям» полное прощение за их приговор. И как только «дело доходит» до оправдания насилия, Кальвин становится красноречивее. Недопустимо, убеждает он, предоставлять каждому свободу говорить то, что он думает (la liberte a chacun de dire ce qu'il voudrait [70]), это слишком бы понравилось эпикурейцам, атеистам и богохульникам. Проповедовать можно только истинное учение (Кальвиново).
Такое запрещение, однако, ни в коем случае не означает (к подобным нелогичным аргументам духовная деспотия прибегает всегда) ограничения свободы. «Ce n'est pas tyranniser l'Eglise que d'empecher les ecrivains mal intentionnes de repandre publiquement ce qui leur passe par la tete» [71]. Если человек заставляет молчать всех, кто думает иначе, то, по мнению Кальвина и его сторонников, он ни в коем случае не оказывает тем самым давления; он только поступает справедливо, служа таким образом великой идее — во славу божью.
Не только вопрос о моральном подавлении еретиков был тем уязвимым пунктом, который нужно было защищать Кальвину, — протестантизм уже давно воспринял этот тезис; решающим же был вопрос, можно ли убивать или позволять убивать инакомыслящих. Если Кальвин в случае с Серветом своими деяниями уже заранее дал утвердительный ответ на этот вопрос, то теперь задним числом он должен был обосновать свои поступки, оправдание которым он ищет, естественно, в Библии, желая показать, что только «по повелению свыше» и будучи послушным «божьей воле» устранил Сервета. Кальвин перерыл все учение Моисея на предмет случаев казни еретиков (ведь в евангелиях слишком часто повторяется: «любите врагов ваших»!), но ничего убедительного не смог найти, Библия вообще еще не употребляла понятия «еретик», а только «blasphemator», то есть богохульник, Сервет же, даже из пламени костра взывающий к божьей милости, никогда не был атеистом. Но Кальвин, опирающийся только на те места в Библии, которые ему больше всего подходили, невзирая ни на что, объявляет истребление инакомыслящих «святой» обязанностью властей: «Уж коли виновен простой человек, если он не берется за меч, едва только язычник осквернил его дом или его ближний восстал против бога, то насколько же отвратительнее трусость правителя, который закрывает глаза на оскорбление религии». Для того и дан им меч, чтобы они могли употребить его «во славу господа» (Кальвин постоянно злоупотребляет этим словом в своих призывах к насилию) : любое деяние, свершенное в «saint zele», в набожном рвении, заранее оправдано. Защита ортодоксии, истинной веры, по мнению Кальвина, разрывает кровные узы, уничтожает любые законы человечности; даже своего ближнего надо уничтожить, если сатана склоняет его к отречению от «истинной веры», к страшному кощунству против бога: «On ne lui fait point l'honneur qu'on lui doit, si on ne prefere son service a tout regard humain, pour n'epargner ni parentage, ni sang, ai vie qui soit et qu'on mette en oublie toute humanite quand il est question de combattre pour sa gloire» [72].
Страшные слова, печальное свидетельство того, как далеко может завести в общем-то ясно мыслящего человека фанатизм! Ведь здесь со всей ужасающей неприглядностью проявляется мнение Кальвина, что благочестивым может считаться только тот, кто ради «учения» — его учения — убьет в себе «tout regard humain» [73], то есть чувство человечности, тот, кто жену и друга, брата и сестру, родных по крови людей послушно предаст в руки инквизиции, как только у кого-то из них в каком-либо вопросе, или вопросике, веры появится иное мнение, нежели у консистории. А для того чтобы никто не оспаривал столь кровавый тезис, Кальвин прибегает к своему последнему, излюбленному аргументу: к террору. Он заявляет, что каждый, кто защищает или прощает еретиков, сам виновен в ереси и заслуживает наказания. И поскольку Кальвин не терпит возражений, он стремится запугать каждого своего оппонента, предсказывая ему судьбу Сервета: либо молчание и повиновение, либо — на костер! Раз и навсегда хочет Кальвин покончить с мучительными для него спорами по поводу убийства Сервета и закрыть дискуссию.
67
«суетливо» (лат.).
68
«чудовище» (лат.).
69
«Я не переставал делать все возможное, чтобы вернуть его к более праведным чувствам» (фр.).
70
свобода для каждого говорить то, что он захочет (фр.).
71
«Запрещать неблагонадежным писателям публично распространять все, что им приходит в голову, не значит терзать церковь» (фр.).
72
«Ему не воздают подобающей хвалы, если не предпочитают любой человеческий взгляд служению господу, если не поступаются ни родством, ни кровью, ни чьей бы то ни было жизнью, если, когда дело касается славы его, не предается забвению всякая человечность» (фр.).
73
«любой человечный взгляд» (фр.).