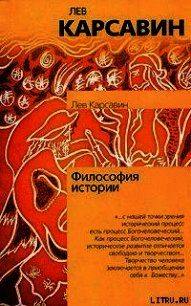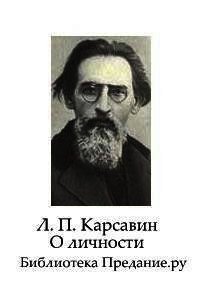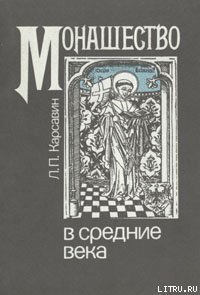Сочинения - Карсавин Лев Платонович (читать книги бесплатно полностью без регистрации сокращений TXT) 📗
Православный идеал нерасторжимо, органически сочетает в себе религиозное, общественное и политическое начало. Он дает «формулу гражданственности», из него проистекающей и от него неотделимой. Поэтому, в православном понимании, церковь, как единство людей во Христе, должна заключать в себе все, все стороны жизни. Церковь не «союз людей для религиозных целей», подобный «всякому общественному союзу она не противоположна государству и не подобна ему, но, в идеале, включает в себя государство, которое должно «обратиться в церковь вполне и стать ничем иным, как лишь церковью, и уже отклонив всякие несходные с церковными свои цели». «Государство», как формулирует приведенную мысль Ивана Карамазова отец Паисий, «должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью, и ничем иным более». Тогда общественно–моральный идеал, вырастающий, как мы видели, из индивидуально–морального, снова обнаружит себя и как индивидуальный, став «идеею о возрождении вновь человека, о воскресении его и о спасении его». Всякие же отношения между церковью и государством, всякое разграничение сфер их действия могут быть только «временным, необходимым еще в наше грешное и незавершившееся время компромиссом». При всем этом человечество должно начинать с духовного единения, с истока. Оно сначала должно объединиться духовно и внутренно, и только «потом уже всилу этого духовного соединения всех во Христе» и «социально» (Дн. 1877 май–июнь, 111,1).
Теперь мне не трудно ответить на недоуменный вопрос читателя: какое все это имеет отношение к католичеству? Впрочем, полагаю, догадливый читатель и сам уже понял, что всем сказанным вопрос о католичестве решен, и оценка его произнесена. Остается лишь детализировать и конкретизировать общую мысль.
Еще до появления христианства европейское человечество жило «идеею всемирного единения людей». Эта идея создала западную цивилизацию и стала ее целью; она выражена древним Римом в «форме всемирной монархии». Но Рим, а вместе с ним и его «формула», пали пред христианством. Однако пала лишь «формула», не сама идея, бывшая своего рода предвосхищением христианского религиозно–общественного идеала. Христианство заключало в себе эту идею искони, хотя ко времени падения Рима и своей победы еще не раскрыло ее с полною ясностью. И она осталась во всей своей чистоте, но и потенциально в христианстве восточном, в православии, ныне возглавляемом и хранимом Россиею. В западном же христианстве или католичестве, в церкви папской христианский идеал видоизменился, «не утратив свое христианское, духовное начало и поделившись им с древне–римским наследством». Католичество провозгласило, что «христианство и идея его, без всемирного владения землями и народами, не духовно, а государственно, — другими словами, без осуществления на земле новой всемирной монархии, во главе которой будет уже не римский император, а папа, — осуществимо быть не может».Католичество считало (и считает) необходимым «сначала заручиться прочным государственным единением в виде всемирной монархии» с тем, чтобы потом, «пожалуй», создать и духовное единение (Дн. 1877, май–июнь, III).
По первоначальному заданию (разумеется, не существенно: насколько сознательному) католичества всемирногосударственное или внешнее единение — средство, духовное — цель. Но средство неизбежно превращается в цель и ее отменяет. Поэтому в развитии папской идеи «самая существенная часть христианского начала почти утратилась вовсе»; римская, светская государственность поглотила и растворила христианский идеал, князь мира сего победил наместников Христовых. Отсюда — омирщение церкви и омирщение всей христианской культуры и жизни. И с :>той точки зрения французская революция и все социалистическое движение представляются логически и органически необходимыми моментами развития Запада. А безрелигиозная общественность и государственность, как мы уже :шаем, приводят к разъединенности, к борьбе всех против всех: к борьбе государств, наций, общественных групп и классов. Вырождение католической культуры и самого католичества, как папской церкви, ставящей себе мирские цели и применяющей мирские средства, завершающей себя η иезуитском братстве, неизбежно. Иначе и быть не может, ибо католическое задание в самой основе своей ошибочно и греховно. Римская или папская идея — «третье диаволово искушение».
Можно не соглашаться и спорить с тем, что православие и том виде, как его описывает Достоевский, не только идеал, но и, хотя бы в малой доле своей, действительность. Входить здесь в рассмотрение этого вопроса неуместно. Ограничусь лишь указанием на то, что, если православие Достоевского не более, чем идеал (впрочем, и для идеала должны быть некоторые реальные предпосылки), он принципиально отличен от католического идеала. Но прав или не прав Достоевский в характеристике православия, он безусловно и во многом прав в характеристике исторического католицизма [7].
Спорить с фактами — предприятие безнадежное. Католичество — это, пожалуй, уже стало общим местом — отличается от православия, и к выгоде своей и к невыгоде, деятельным характером. Оно, конечно, не отрицает ни жизни, ни царства будущего века, напротив — в них усматривает последнюю цель и ими обесценивает земную жизнь. Но практически и реально оно все в этой, теоретически обесцениваемой им, земной жизни, всецело занято ее устроением, поглощено ее целями и ее задачам подчиняет идеалы будущего мира, который и сам предстает пред ним в чертах и красках мира земного. Христианская идея наряду с царством небесным, понятие которого доныне остается неуясненным, предполагает и преображение земной действительности усилиями сынов Божьих. И это преображение можно или относить в далекое будущее, к концу времен, небрежа земным трудом, в чем повинно восточное христианство, или считать его постоянным и необходимым заданием. Понимая свою цель во втором смысле (в чем его большое значение), католичество, во–первых, рассматривает земную деятельность, как средство достижения небесного царства, а во–вторых, самое земную деятельность берет в ее чистом виде, забывая о ее преображении. И в том, и в другом — его измена христианскому идеалу.
На деле католичество сосредоточилось на земных целях, заставляя служить им даже ушедших из мира монахов, которыми оно укомплектовывает армии воинствующей церкви. Оно — религия человеческая, слишком человеческая.
Оно не ждет, когда государство «сподобится» стать церковью, но и не стремится себе его уподобить, само ему уподобляясь. Достоевский с полным основанием выдвигает момент земного владычествования, римскую традицию. С неменьшим правом можно указать на католическую мораль, рассудочно–расчетливую в типичных своих обнаружениях и скользящую по грани бухгалтерии, на холодно–рассудочное богословие, на мистику, которая вносит в отношения к Божеству человеческую «прелесть», земную эротику. Косвенно, на рассудочность католичества Достоевский и намекает и речи Шатова в «Бесах». «Народы», говорит Шатов, «слагаются и движутся» не разумом или рассудком, не наукою, а «силою иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же нремя конец отрицающая. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти», «искание Бога». Она может быть и есть даже в необразованном и диком, некультурном народе, как может отсутствовать и часто отсутствует в образованном и ученом человеке. «Ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума: не было ни разу такого примера, разве на одну минуту, по глупости… Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца веков». И религия основываться на разуме не может. Ведь «никогда разум не в силах был определить зло и добро или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив; всегда позорно и жалко смешивал…» А какая же религия без различения добра и зла? Если принять во внимание, что именно в православном или русском народе Достоевский усматривает эту высшую силу, делающую простого русского мужика носителем истинно–христианского идеала, и если сопоставить с этим последовательный рационализм католического богословия, выдвинутое мною положение оказывается отчетливо не высказанным у Достоевского только по недоразумению или случайным обстоятельствам. Но, конечно, и рационализм ложен лишь как отрицающий высшее ведение и горделиво ставящий себя на его место, не довольствуясь скромною служебною ролью. Таков рационализм католичества, и в этом тот же основной недостаток римской религии.