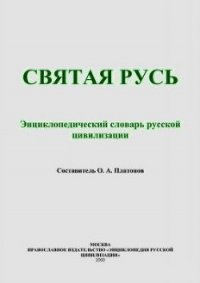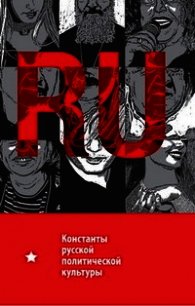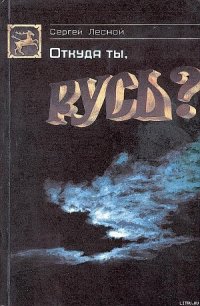Святые Древней Руси - Федотов Георгий Петрович (е книги .TXT) 📗
В размышлениях Бориса, по "Сказанию", дается и другое, евангельское, обоснование подвига. Князь вспоминает о смирении: "Господь гордыим противиться, смереным же дает благодать"; о любви: "Иже рече: Бога люблю, а брата своего ненавидить, ложь есть"; и: "Совершеная любы вон измещеть страх". Сильно выделен аскетический момент суеты мира и бессмысленности власти: "Аще пойду в дом отца своего, то языци мнози превратят сердце мое, яко прогнати брата моего, яко же и отець мой преже святого крещения, славы ради и княжения мира сего, и иже все мимоходит и хуже научины... Что бо приобретоша преже братия отца моего или отец мой? Где бо их жития и слава мира сего и багряницы и брячины (украшения), сребро и золото, вина и медове, брашня честная и быстрии кони, и домове краснии и велиции, и имения многа и дани, и чести бещислены и гордения, яже о болярех своих? Уже все се им какы не было николи же, вся с ними исчезоша... Тем и Соломон, все прошед, вся видев, вся стяжав, рече: "Все суета и суетие суетию буди, токмо помощь от добр дел и от правоверия и от нелицемерныя любве". В этом раздумьи князя нет и намека на идею политического долга, на религиозное призвание власти. Даже княжение святого Владимира проходит, как смена мирских сует, не оставив следа.
Но всего сильнее переживается Борисом мысль о мученичестве: "Аще кровь мою пролиет, мученик буду Господу моему", – эти слова он в "Сказании" повторяет дважды. В ночь перед убийством он размышляет о "мучении и страсти" святых мучеников Никиты, Вячеслава и Варвары, погибших от руки отца или брата, и в этих мыслях находит утешение. Вольное мучение есть подражание Христу, совершенное исполнение Евангелия. В утро убийства Борис молится пред иконой Спасителя: "Господи Иисусе Христе, иже сим образомь явися на земли, изволивый волею пригвоздитися на кресте и приим страсть грех ради наших! Сподоби и мя прияти страсть". Со слезами идет он "на горькую смерть", благодаря Бога, что сподобил его "все престрадати любве ради словесе Твоего". С ним согласны и слуги, его оплакивающие: "Не восхоте противится любве ради Христовой, – а коликы вои держа в руку своею". Убийцы уже в шатре, а последние слова святого все те же: "Слава Ти, яко сподобил мя убежати от прелести жития сего лестного... сподоби мя труда святых мученик... Тебе ради умерщвляем есмь весь день, вмениша мя, яко овна на снедь. Веси бо, Господи мой, яко не противлюсь, ни вопреки глаголю".
Замечательно, что мученичество святых князей лишено всякого подобия героизма. Не твердое ожидание смерти, не вызов силам зла, который столь часто слышится в страданиях древних мучеников... Напротив, "Сказание", как и летопись, употребляет все свое немалое искусство, чтобы изобразить их человеческую слабость, жалостную беззащитность. Горько плачет Борис по отце: "Все лицо его слез исполнилось и слезами разливался... "Увы мне, свете очию моею, сияние и заре лица моего. Сердце ми горит, душу ми смысл смущаеть, и не вем к кому обратитися". Еще трогательнее, еще надрывнее плач Глеба: "Увы мне, увы мне! Плачю зело по отци, паче же плачюся и отчаях ся по тебе, брате и господине Борисе, како прободен еси, како без милости предася, не от врага, но от своего брата... Уне бы со тобою умреть ми, неже уединену и усирену от тебе в сем житии пожити!" К ним, убитым отцу и брату, он обращается и с предсмертным молитвенным прощанием. Эта кровная, родственная любовь лишает всякой суровости аскетическое отвержение мира. В это отвержение – не монашеское – включается мир человеческий, особенно кровный, любимый.
Но "Сказание" идет и дальше. Оно ярко рисует мучительную трудность отрыва от жизни, горечь прощания с этим "прелестным светом". Не об отце лишь плачет Борис, но и о своей погибающей юности. "Идый же путемь помышляаше о красоте и доброте телесе своего, и слезами разливаашеся весь, хотя удержатися и не можаше. И вси, зряще тако, плакаашеся о добророднемь теле и честном разуме его... Кто бо не восплачеться смерти той пагубной... приведя пред очи сердца своего... унылый его взор и сокрушение сердца его". Таков и последкий день его перед смертью, который он проводит, покинутый всеми, "в тузе и печали, удрученомь сердцемь". В нем все время идет борьба между двумя порядками чувств: жалости к себе самому и возвышенного призвания к соучастию в страстях Христовых. Постоянные слезы – свидетельство этой борьбы. После вечерни в последнюю ночь "бяше сон его во мнозе мысли и в печали крепце и тяжце и страшне"... Молитва заутрени укрепляет его. Раздирающие псалмы шестопсалмия дают исход его собственному отчаянию. Он уже молит Христа сподобить его "приять страсть". Но. почуяв "шопот зол вокруг шатра", он опять "трепетен быв", хотя его молитва теперь уже о благодарности. После первых ударов убийц Борис находит в себе силы "в оторопи" выйти из шатра (подробность, сохраненная и Нестором). И тут еще он умоляет убийц: "Братия моя милая и любимая, мало ми время отдайте, да помолюся Богу моему". Лишь после этой последней жертвенной молитвы ("Вмениша мя, яко овна на снедь"), он находит в себе силы, хотя и по-прежнему "слезами облився", сказать палачам: "Братие, приступивше скончайте службу вашу и буди мир брату моему и вам, братие".
Еще более поражает в "Сказании" своим трагическим реализмом смерть Глеба. Здесь все сказано, чтобы пронзить сердце острой жалостью, в оправдание слов самого Глеба: "Се несть убийство, но сырорезание". Юная, почти детская жизнь трепещет под ножом убийцы (как характерно, что этим убийцей выбран повар), и ни одна черта мужественного примирения, вольного избрания не смягчает ужаса бойни – почти до самого конца. Глеб до встречи с убийцами, даже оплакав Бориса, не верит в жестокий замысел Святополка. Уже завидев ладьи убийц, он "возрадовался душею" – "целования чаяше от них прияти". Тем сильнее его отчаяние, тем униженнее мольбы: "Не дейте мене, братия мои милая, не дейте мене, ничто же вы зла сотворивша... Помилуйте уности моей, помилуйте, господие мои. Вы ми будете господие мои, аз вам – раб. Нс пожнете мене от жития несозрела, не пожнете класа недозревша... Не порежете лозы, не до конца возрастшиа..." Однако уже это причитание кончается выражением беззлобного непротивления: "Аще ли крови моей насытитися хочете, уже в руку вы есмь, братие, и брату моему, а вашему князю". После; прощания с уже отшедшими отцом и братом он молится, и молитва эта, начавшись с горькой жалобы: "Се бо закаляем есмь, не вемь, что ради", оканчивается выражением убеждения, что он умирает за Христа: "Ты веси, Господи, Господи мой. Вемь Тя рекша к своим апостолам, яко за имя Мое, Мене ради возложат на вас рукы и предани будете родомь и другы, и брат брата предасть на смерть". Думается, в полном согласии с древним сказателем, мы можем выразить предсмертную мысль Глеба: всякий ученик Христов оставляется в мире для страдания, и всякое невинное и вольное страдание в мире есть страдание за имя Христово. А дух вольного страдания – по крайней мере, в образе непротивления – торжествует и в Глебе над его человеческой слабостью.
Нестор сводит к минимуму присутствие этой человеческой слабости. Он оставляет слезы, но не знает ни причитаний, ни мольбы, обращенной к убийцам. У него Борис приглашает убийц "скончать волю пославшего" после заутрени и прощания с близкими. Даже Глеб не проявляет слабости перед смертью. Нестор хочет дать житийный образ мучеников, предмет не жалости, а благоговейного удивления. Впрочем, у него мы находим все те же мотивы подвига, разве лишь с несколько иным ударением. Автор, видимо, дорожит практически назидательными уроками, вытекающими из подвига страстотерпцев. Он много останавливается на идее послушания старшему брату, и любовь, ради которой умирают святые, понимает в утилитарном смысле. Князья отказываются от сопротивления, чтобы не быть причиной гибели дружины. "Уне есть мне единому умрети, – говорит Борис, – нежели столику душ". И Глеб "уняше един за вся умрети и сего ради отпусти я".|