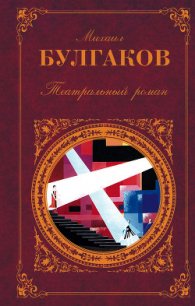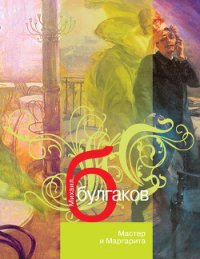Свет невечерний. Созерцания и умозрения - Булгаков Сергий Николаевич (читать книги без .TXT) 📗
«И нарек Адам имя жены своей: Ева (Жизнь), ибо она стала матерью всех живущих» (3:20). Адам смирился пред благим и мудрым судом и понял его неокончательность. Он постиг, что именно в Еве, соблазнившей его и навлекшей смерть, по–прежнему таится Жизнь, и скрываются «ложесна пространнее небес», которые вместят Победителя смерти. И это многознаменательное действие Адама, совершившееся как раз после суда Божия и перед самым изгнанием из рая, показало, что согрешившая чета не поддалась отчаянию, но верит благости Творца и приемлет свою миссию на земле. Пролог в небе закончился, началась многотрудная история человечества. Гаснут небесные огни, отяжелело человеческое тело, все стало косным и непрозрачным. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его кожаные одежды и одел их» (3:21). Одновременно с этим люди изгнаны были из рая, после того как сами изгнали из себя рай, потеряв способность им наслаждаться. Бог лишил их и «плодов древа жизни», ибо они могли бы давать лишь магическое бессмертие; без духовного на него права, и оно повело бы к новому падению [850]. В мир готовился уже вступить братоубийца Каин, чтобы осквернить девственную землю человеческой кровью. И рай был взят от земли, как неведомый град Божий, а вход в него был возбранен херувимом «с пламенным мечем обращающимся», Адаму же указано было «возделывать землю, из которой он взят» (3:23).
6. Свет во тьме.
Грехопадение явилось величайшей религиозной катастрофой. Прямое и непосредственное богообщение, которое было уделом прародителей в раю, прервалось. Бог сделался далек миру и человеку («трансцендентен»). и человек остался один, — своим собственным господином: «будете яко бози». Incipit religio [851]. Это начало религии связано с греховной ущербленностью богосознания в больном и падшем человечестве. Испытывая райское богообщение, прародители, хотя и знали неизмеримую бездну, отделяющую Творца от творения, но этим сознанием в них не обнажалось подполье. Они относились к Творцу как любимые и любящие дети, с ничем не омрачаемым доверием и близостью. Острое и больное чувство тварности, обида и зависть были пробуждены сатаной, вызвавшим в них бунт подполья, восстание творения против своей же собственной основы. Между Богом и человеком залегла тогда тьма тварного подполья. В религии и выражается усилие человека прорваться через эту тьму к свету богопознания. «И свет во тьме светится, и тьма его не объяла» [852], В раю человек не чувствовал расстояния между Богом и собою, а потому не знал и жажды соединения с Ним. Но пафос религии есть пафос расстояния, и вопль ее — вопль богооставленности. «Или или лима савахфани — Боже мой, векую оставил Меня» — вот ее предельное выражение. В раю же если и была религия, то качественно иная, чем нам известная, ибо не было в ней искания, усилия, кровавого пота. В раю не было храма и жертвенника, ибо весь рай был храмом. Соответственно этому и в «новом Иерусалиме, сходящем с неба», «храма уже не будет, но сам Бог будет, ибо Господь Бог Вседержитель храм его и Агнец» (Откр. 21: 22; ср. 22, 3).
С изгнанием из рая прекратилась эта радость непосредственного богообщения. «Кожаные ризы» сделали для человека неощутимым сияние божества, в естестве человеческом сгустилась тьма. Он почувствовал себя находящимся в мире, Бог же становился трансцендентным, оставляя в его распоряжении этот «мир», страну изгнания. В силу своей собственной косности и тяжести мир как бы отваливается от Бога, подвергается «инволюции» [853], замыкается в себе, и постепенно гаснут в нем лучи райского богопознания и замирают райские песни. Казалось, Люцифер имел основание торжествовать, ибо замысел его — стать князем мира, противобогом, овладеть Божьим созданием — явно осуществлялся. Удаление Божества от мира, Его «трансцендентность», за известными пределами становится равносильной практическому Его отрицанию, чувство отъединенности человека от Бога приводит его к миробожию. Религия, выражающая обоюдную напряженность обоих полюсов, — вот что осталось человеку от райского богопознания, как воспоминание и надежда. И ее надо было угасить искусителю, чтобы сполна овладеть человеком, утопив его в стихии миродовольства. Но завистливый себялюбец не мог понять безмерности любви — смирения Божия, самоуничижения Божия из любви к твари, как не умел оценить и благородства человеческого духа, в котором бессмертной красой сиял образ Божий. И Бог не оставил Своего создания жертвой самоупоения, но пошел на спасение человечества — чрез религию. Началось религиозное откровение. И земля насторожилась, внемля зову неба; человек ощутил в себе небесную родину. Сатана был посрамлен, ибо никогда человек не мог опуститься до низости полной безрелигиозности и безбожия, и даже «новому времени», наиболее безбожному и отяжелевшему в «инволюции», не удалось это духовное самоубийство.
В религиозном процессе, который и составляет существо мировой истории, дело идет о спасении от мира, о взыскании Бога человеком ( «из глубины воззвах к Тебе, Господи») [854], а вместе и о спасении мира. Последнее же может быть совершено только Богом, своими силами человек не в состоянии освободиться от мира, ибо мир — это он сам. Поэтому в религии можно различить две задачи: богооткровение и богодействие. Первая задача исчерпывает собой положительное содержание «язычества» [855] (понимая под ним «естественные» религии, т. е. все, кроме иудео–христианства), обе же задачи одновременно разрешаются в откровенной религии Ветхого и Нового Завета.
Изгнанный из рая человек ищет Бога, ибо Он «недалеко от каждого из нас». Таким исканием является и язычество, которое содержит в себе или, по крайней мере, может содержать положительное знание о Боге, некое о Нем откровение. Жажда встречи с Богом в язычестве даже распаленнее, чем в откровенной религии, искание пламеннее, исступленнее, мучительней. Недаром дымка печали, отчаяния и безответности лежит над ясным Олимпом, и так легко поддается язычество оргиастическому исступлению. Кажущийся «имманентизм» или пантеизм язычества — обоготворение сил природы, животных, человека — не должен здесь обманывать, вселяя представление о каком–то миродовольстве и уравновешенности. Такого ужаса богооставленности, какой в судорожных корчах испытывало язычество именно в моменты своих религиозных подъемов, конечно, не могла знать откровенная религия. Усилие человека прорваться до Бога было здесь напряженней и, главное, отчаяннее, чем в иудео–христианстве, где воздвигнута была лестница Иаковля [856]. Недаром же обнаружилось в полноту времен, что язычники оказались более готовы принять Христа, чем иудеи, ибо больше Его жаждали и ждали: блудный сын давно уже тосковал и томился по родному дому [857]. Язычество в глубочайшем существе своем есть прежде всего эта тоска изгнания, вопль к небу: ей, гряди! Ему свойственна поэтому трагическая сосредоточенность и величайшая серьезность. Но его религиозный пафос роковым образом обращен на религиозные суррогаты, на всяческое идолопоклонство, вопреки его собственному внутреннему устремлению. Менее всего может довольствоваться серьезная религия идолопоклонством, т. е. обожествлением идолов или сил природы. Во всех этих предметах поклонения язычник видит лишь живые иконы Божества, весь мир исполнен для него божественной силой: πάντα πλήρη θεών [858]. И самые боги были как бы отдельными раздробленными лучами, множественными ипостасями трансцендентного Божества. Вообще многобожие в язычестве свидетельствует не о нежелании, но о бессилии подняться до Единого Божества, пребывающего трансцендентным, и есть символ этой трансцендентности, невыразимости Божества. Вследствие же этой Его безликости и получается невольная многоли–кость. Чистое же многобожие является лишь вырождением и, до известной степени, извращением язычества. Иначе говоря, и в религиозном самосознании язычества, и в его благочестии живо чувствуется НЕ отрицательного богословия, составляющее для него общий религиозный фон, придающее ему определенный аромат, глубину и возвышенность.