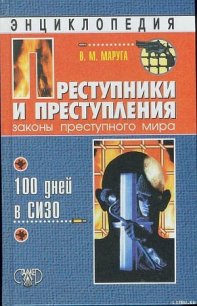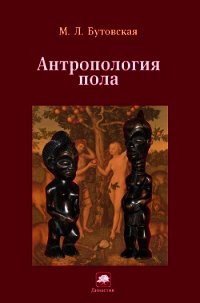Преступники и преступления. Женщины-убийцы. Воровки. Налетчицы - Корец Марина Александровна
— Нельзя — говорят— не можем по закону, вас требуют немедленно отправить.
Рассуждать было нечего. Засулич понимала, что надо покориться закону, не знала только, о каком законе тут речь. Поехала она в одном платье, в легком бурнусе; пока ехала по железной дороге, было сносно, потом поехала на почтовых, в кибитке, между двух жандармов. Был апрель, в легком бурнусе стало невыносимо холодно; жандарм снял свою шинель и одел барышню.
Привезли ее в Крестцы. В Крестцах сдали ее исправнику, исправник выдал квитанцию в принятии клади и говорит Засулич: „Идите, я вас не держу, вы не арестованы. Идите и по субботам являйтесь в полицейское управление, так как вы состоите у нас под надзором“.
Рассматривает Засулич свои ресурсы, с которыми ей приходится начать новую жизнь в незнакомом городе. У нее оказывается рубль денег, французская книжка да коробка шоколадных конфет.
Нашелся добрый человек, дьячок, который поместил ее в своем семействе. Найти занятие в Крестцах ей не представлялось возможности, тем более что нельзя было скрыть, что она — высланная административным порядком.
Из Крестцов ей пришлось ехать в Тверь, в Солигалич, в Харьков. Таким образом, началась ее бродячая жизнь — жизнь женщины, находящейся под надзором полиции. У нее делали обыски, призывали для разных опросов, подвергали иногда задержкам не в виде арестов и, наконец, о ней совсем забыли.

Когда от нее перестали требовать, чтобы она еженедельно являлась на просмотр к местным полицейским властям, тогда ей улыбнулась возможность контрабандой поехать в Петербург и затем с детьми своей сестры отправиться в Пензенскую губернию. Здесь она летом 1877 года прочитывает первый раз в газете „Голос“ известие о наказании Боголюбова.
Боголюбов был осужден за государственное преступление. Он принадлежал к группе молодых, очень молодых людей, судившихся за преступную манифестацию на площади Казанского собора. Весь Петербург знает об этой манифестации, и все с сожалением отнеслись тогда к этим молодым людям, так опрометчиво заявившим себя политическими преступниками, к этим так непроизвольно погубленным молодым силам. Суд строго отнесся к ним. Покушение явилось в глазах суда весьма опасным посягательством на государственный порядок, и закон был применен с подобающей строгостью.
Боголюбову судебным приговором был лишен всех прав состояния и принужден к каторге. Что был для нее Боголюбов? Он не был для нее родственником, другом, он не был ее знакомым, она никогда не видела и не знала его. Для Засулич Боголюбов был политический арестант, и в этом слове было для нее все: политический арестант не был для Засулич отвлеченное представление, вычитываемое из книг, знакомое по слухам, по судебным процессам, — представление, возбуждающее в честной душе чувство сожаления, сострадания, сердечной симпатии.
Политический арестант был для Засулич — она сама, ее горькое прошлое, ее собственная история: история безвозвратно погубленных лет, лучших и дорогих в жизни каждого человека, которого не постигает тяжкая доля, перенесенная Засулич. Политический арестант был для Засулич — горькое воспоминание о ее собственных страданиях, ее тяжкого нервного возбуждения, постоянной тревоги, томительной неизвестности, вечной думы над вопросами: что я сделала, что будет со мной, когда же наступит конец? Политический арестант был ее собственное сердце, и всякое грубое прикосновение к этому сердцу болезненно отзывалось на ее возбужденной натуре.
Неужели к тяжкому приговору, постигшему Боголюбова, можно было прибавлять еще более тяжкое презрение к его человеческой личности, забвение в нем всего прошлого, всего, что дали ему воспитание и развитие? Неужели нужно было еще наложить, несмываемый позор на эту, положим, преступную, но, во всяком случае, не презренную личность? Нет ничего удивительного, продолжала думать Засулич, что Боголюбов в состоянии нервного возбуждения, столь понятного в одиночно заключенном арестанте, мог, не владея собой, позволить себе то или другое нарушение тюремных правил, но на случай таких нарушений, если и признавать их вменяемыми человеку в исключительном состоянии его духа, у тюремного начальства существуют другие меры, не имеющие ничего общего с наказанием розгами.
Да и какой же поступок приписывают Боголюбову газетные известия? Неснятие шапки при вторичной встрече с почетным посетителем. Нет, это невероятно, успокаивалась Засулич; подождем, будет опровержение, будет разъяснение происшествия; по всей вероятности, оно окажется не таким, как представлено. Но не было ни разъяснений, ни опровержений, ни гласа, ни послушания. Тишина молчания не располагала к тишине взволнованных чувств. И снова возникал в женской экзальтированной голове образ Боголюбова, подвергнутого позорному наказанию, и раскаленное воображение старалось угадать, перечувствовать все то, что мог перечувствовать несчастный.
Кто же вступится за поруганную честь несчастного каторжника? Кто смоет, кто и как искупит тот позор, который навсегда неутешимой болью будет напоминать о себе несчастному? С твердостью перенесет осужденный суровость каторги, он примирится с этим возмездием за его преступление, быть может, наступит минута, когда милосердие с высоты трона и для него откроется, когда скажут ему: „Ты искупил свою вину, войди опять в то общество, из которого ты удален, войди и будь снова гражданином“.
Но кто и как изгладит в его сердце воспоминание о позоре, о поруганном достоинстве; кто и как смоет то пятно, которое на всю жизнь останется неизгладимым в его воспоминании? Так думала, так не столько думала, как инстинктивно чувствовала В. Засулич. Я говорю ее мыслями, я говорю почти ее словами. Быть может, найдется много экзальтированного, болезненно преувеличенного в ее думах, волновавших ее вопросах, в ее недоумении.
Не надо забывать, что Засулич — натура экзальтированная, нервная, болезненная, впечатлительная; не надо забывать, что павшее на нее, чуть не ребенка в то время, подозрение в политическом преступлении, подозрение, оправдавшееся, но стоившее ей двухлетнего одиночного заключения, и затем бесприютное скитание надломили ее натуру, навсегда оставив воспоминание о страданиях политического арестанта, толкнули ее жизнь на тот путь и в ту среду, где много поводов к страданию, душевному волнению, но где мало места для успокоения на соображениях практической пошлости.
В беседах с друзьями и знакомыми, наедине, днем и ночью, среди занятий и без дела Засулич не могла оторваться от мысли о Боголюбове, и ниоткуда сочувственной помощи, ниоткуда удовлетворения души, взволнованной вопросами: кто вступится за опозоренного Боголюбова, кто вступится за судьбу других несчастных, находящихся в положении Боголюбова?

Засулич ждала этого заступничества от печати, она ждала оттуда поднятия, возбуждения так взволновавшего ее вопроса. Памятуя о пределах, молчала печать. Ждала Засулич помощи от силы общественного мнения. Из тиши кабинетов, из интимного круга приятельских бесед не выползало общественное мнение. Она ждала, наконец, слова от правосудия. Правосудие… Но о нем ничего не было слышно. И ожидания оставались ожиданиями. А мысли тяжелые и тревоги душевные не унимались. Поэтому снова и снова возникал образ Боголюбова и вся его обстановка. И вдруг внезапная мысль, как молния, сверкнувшая в уме Засулич: „А я сама! Затихло, замолкло все о Боголюбове, нужен крик, в моей груди достанет воздуха издать этот крик, я издам его и заставлю его услышать!“
Мысль о преступлении, которое стало бы ярким и громким указанием на расправу с Боголюбовым, всецело завладела возбужденным умом Засулич. Иначе и быть не могло: эта мысль как нельзя более соответствовала тем потребностям, отвечала на те задачи, которые волновали ее.