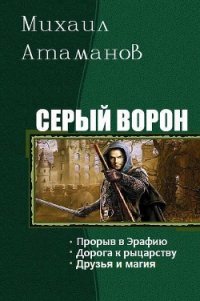Вокруг крючка - Заборский Михаил Александрович (книга регистрации .txt) 📗
— Я, — каялся, — мужики, тоже очень виноватый. Разве можно горького пьяницу до колхозного добра допускать? Недосмотрел! Потому что дела очень много. Так что извините!
А за ним дед Стулов вылез.
— Ошибся, — сказал, — все-таки Федор Никитич. Когда в то утро все учил меня жить по-честному. А не надуй дед Стулов рыбачков — кормить бы, нечистый дух, Федьке окуней под Шушпановом!..
И тут такой хохот поднялся на собрании, что даже дверь в клубе маленько отошла. Слабая там у нас дверь…
Наличники

Может, насчет чего иного и допускал дед Стулов какие послабления, а только насчет здоровья строго себя содержал. Тут еще статейка одна ему в газете попалась. О пользе гимнастики для лиц пожилого возраста. Изучил дед статейку и завел порядок: чуть свет запускать радио и всю утреннюю зарядку прослушивать. До конца, пока марша не сыграют. Иной раз, бывало, и сам ногой дрыгнет, а то руками разведет на особенном упражнении.
Даже бабку хотел совместно вовлечь и уже дал ей распоряжение черного сатина в сельпо подобрать на трусики.
Только не поддалась в этот раз бабка. Ни в какую.
Пришлось переключиться деду вместо гимнастики на усиленную колку дров. Дрова же в тот год попались еловые да такие вязкие, что не из каждого полена обратно и колун вытащишь. Поколешь часа два и о всякой физкультуре поминать бросишь.
И еще за зубами своими имел дел неослабное наблюдение. Потому что известно — если у человека зубы тронутые, то и от желудка хорошей отдачи не жди. У деда же, хотя корешков зубных и был рот полный, вроде бы и отбавить не мешало, — самостоятельный зуб остался только один. Посередине, в нижней челюсти. И ветерана этого берег дед как зеницу ока. Каждую субботу чистил после бани.
Так что на здоровье деду жаловаться особо не приходилось. Случалось, даже из молодых завидовали. А если и занедужит маленько дед, то тоже ненадолго. «Нет, — буркнет, — у меня времени бока тешить. Не на пляже!..» Пошлет бабку с пустой четвертинкой куда следует, сам на печку русскую взгромоздится, а утром, глядишь, обмогся дед. И опять по хозяйству крутится.
Но как бы, говорят, веревочке не виться, а кончику быть. И слег в феврале месяце дед Стулов от жестокого воспаления. А дело получилось такое.
В ту зиму зайцы на акатовские сады набег сделали. Беляки. Чуть не все яблони на колхозных усадьбах перепортили. Петр Михайлович, председатель, даже в район писал, в союз охотников. Присылайте, дескать, поболее мужиков с ружьями. А тем недосуг. Так и пришлось нам от зайцев отбиваться собственными силами.
С зайцами этими дед даже сон потерял. Четыре дерева у него обглодали: анис полосатый, две китайки, а больше всего коричное пострадало. Уж такие яблоки родились от этого коричного, что не только кушать — вспомнить и то сладко! В самом соку яблоня — четырнадцати годов. Ваське-внучку ровесница. А глодал ее, по приметам судя, старый зайчина, матерый. С большой квалификацией.
Трое суток дед этого оборотня выслеживал. По утрам. Зайцы-то ведь больше перед зорькой кормятся. А на четвертые сутки поднял дед зайца с лежки около самой усадьбы. Вплотную напоролся — чуть валенком не наступил. Заяц — прысь в сторону! А дед вскинул свою тульскую, зажмурился да как бабахнет из обоих стволов. Даже собаки по всей деревне забрехали да иней с яблонь посыпался. И заяц, тот кувырком, через голову.

— Ну, гад, отожрал мои яблони! — заорал дед. И к зайцу. А тот поднялся, шатается. Словно выпивши. И вдруг от охотника — скок! Хотя и не в полную силу.
Бросил дед ружье, растопырил лапы — и за зайцем. А тот опять — скок! И дед за ним — прыг!.
Так и пошло. Дед — прыг! Заяц — скок! И держат одну дистанцию. Как на военном параде. В руки же заяц не дается.
А обулся дед в тот раз, надо заметить, тяжеловато. Вместо валенок домашней валки фабричные напялил, а на них галоши литые. На каждой ноге по полпуда всякой обувки наворочено. И прыгать в такой амуниции не очень удобно. Тем более, снег февральский — пухлый, глубокий.
— Ах ты, нечистый дух! — взъярился дед. — Это пожилого человека да на издевку брать! Все едино достигну!
Сел посереди поля, скинул напрочь валенки да в одних вигоневых носках и махнул за косым. А заяц, не будь дурак, тоже скорость переключил. Только уши мелькают, а на них кисточки черные.
Так и гнал дед зайца — от усадьбы до самого сосняка. С километр, пожалуй, гнал, никак не менее. Вот она что делает, горячка-то охотничья! А допрыгали до леса, и зашлось у деда сердце. Ухватился за ближнюю сосенку, рот — разинул, а слова сказать не может. Весь сделался мокрехонек. В глазах темнота, и только белые мухи носятся.
Не словил дед этого зайца. Должно быть, промазал сгоряча. Уж после сам сетовал: не надо бы жмуриться!
С того часа деда, наверное, и прохватило. Да и было от чего — ведь чуть не босиком оказался. А тут, точно назло, погода сменилась. Ветер с севера повернул, поземка пошла, да такая въедливая. Все вокруг закидывает — насилу дед на обратном пути валенки свои разыскал.
Воротился в избу, а с обеда скорее на печь. Там его и закрутило. Места живого не найдет, точно в грохоте просеяли. В боках колет, в груди теснит, в ногах ломит, живот вспучило. В голове какая-то жилка тренькает, а жаром от деда так и пышет, как от каленого утюга.
А бабка вокруг него носится, хлопочет. Все средства в ход пустила: сухой малинки с медом заварила, муравьиным едучим спиртом ноги деду натерла, оболочкой ватной запеленала, а сверху овчинами укутала. А поту добиться никак не могут — сухость одна. И не согреется дед, только трясется да зубами стучит. Пихнула ему бабка под мышку градусник, и показало на нем тридцать девять да три десятых градуса.
Всю ночь старуха глаз не сомкнула. С лица даже спала. Нет-нет отойдет в угол да подолом с глаз слезинку смахнет.
А забрезжил свет, клокотнуло что-то у деда в горле, и сказал он:
— Дерьмовое мое, должно быть, дело! Сходила бы ты, мать, на село к фельдшеру Верухе Маловой. Не прибегнет ли к помощи медицины?
А уж раз так сказал, поняла бабка, значит, на самый край попало. За всю жизнь еще не видывала, чтобы дед капель себе каких-либо в стакан накапал или хотя пилюлю одну сжевал.
К слову заметить, в те годы еще у нас такой порядок заведен был: идет фельдшер из села Медведицкого на вызов и заодно с собой котомку тащит со всей аптекою. И кому чего требуется, тут же деревенским продает за наличные. На месте. Кто позапасливей, обязательно какое-нибудь лекарство да приобретет. А дед, хотя и очень интересовался, какую боль чем лечить следует, денег на ветер никогда не кидал.
Бывало, заманит Веруху к себе в избу и все пузырьки у нее переберет. И вот все спрашивает: это, мол, зачем да то от чего? Даже в сторону склянки три отставит, вроде за собой забронирует. А потом ощерит зуб, пузырьки обратно отодвинет и скажет:
— Великая вещь медицина! А отпусти-ка ты мне, красавица симпатичная, гривен на восемь ды-ды-тэ!
И получается, что с врачебным делом не приходилось деду особенно соприкасаться…
Так вот, хоть и побежала бабка в больницу, а вернулась без большой удачи. В райздрав Вера уехала и быть обратно обещалась не ранее вечера.
А больному, что ни час, хуже становится. И такие слова начал высказывать, что лучше бы и молчал вовсе. Прыгнет к нему, к примеру, в ноги кот Порфиша, и завопит дед:
— Ах ты, дорогой кисонька! Прибыл к хозяину на последнее свиданьице! Провожать старца в путь-дорожку дальнюю!
А раньше кота этого к одеялу и близко не подпускал. Всегда ремнем отваживал. С латунной пряжкою.
Подаст бабка кружку кипятку с клюквой толченой, и опять зальется дед:
— Ах вы, клюквинки-ягодки, не сбирать мне вас больше в болотце моховом руками белыми!
Да так жалостно зальется, что послушаешь, и хоть сам реви белугою.