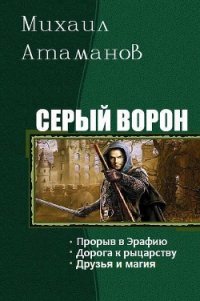Вокруг крючка - Заборский Михаил Александрович (книга регистрации .txt) 📗
А засумерничало, и начал дед отдавать последние распоряжения:
— Ты, мать, Геннадия-то раньше осени не коли. Уж ежели моя жизнь кончается, пускай хотя боровок лето проживет. Хватит ему теперь до молодой травки картошки-то. Одним едоком в семье меньше становится… Вот она и економия образовалась… Ох!.. А книжку-то сберегательную, гляди, никому не показывай. А то будут соседушки навещать да взаймы клянчить. Не отобьешься! А часы мои серебряные с двойной крышкой Ваське-внучку вилкою ковырять не давай!
Слушает бабка, а сердце у ней точно разрывается. А дед глотнул раза два воздух, ровно карась на сковороде, и дальше продолжает:
— Тес там на чердаке припасен, без сучков, выдержанный. На последний случай берег. Так уж ты свату Михаиле передай, чтобы был в готовности. Ожидал сигналу. Лучше-то его, пожалуй, никому не сколотить… Ох!.. Не идет Верушенька, задерживается. В Кимрах, сказывают, амура завела. Рябой такой амур, из речной флотилии. Натолием звать… Ну что ж, ихнее дело молодое… А сено-то недельки через две продавать начинай! Не ранее. Самая цена будет сену-то!.. Ох!.. Ты, бабушка, уж коли медицина не идет, на худой конец за попом бы послала!..

А тут в дверь стучат. Прикатила все-таки Веруха. Сама румяная с морозу, веселая, глаза серые, мужественные, нос орлиный. Поглядишь на такого фельдшера, другой раз и про болезнь забудешь.
— Это, — спрашивает, — что же за непорядок? Всю колхозную знать хворь одолела. И председатель тоже третьи сутки как валяется. Оскользнулся около конюшни, ногу вывихнул. А уж до чего же беспокойный больной! Все с постели рвется: уйду да уйду! Только раз я постановила лежать — значит, все! Железобетон!
Шубу скинула, белый халат оправила — и к деду:
— Ну, старый бедокур, на что жалуешься? Рассказывай!
— Жаловаться, — стонет дед, — поздновато мне, доченька. Да, пожалуй, и совестно. Всеми я вами премного благодарен, милостивцами. Пожил — нечего бога гневить — желаю всякому! А теперь вот вышел срок собираться в путь-дорожку дальнюю.
И как только помянул дед про эту дорожку, так и давай опять вопить. И старуха тоже в подголосок.
Ну, а Вера, конечно, всякое слыхала. Потому что фельдшер.
И взялась деда мять да щупать. А потом и воронку черную к дедовой груди приложила.
— Так, — говорит Вера, — вздохните, больной! Попрошу еще раз! Да не вертись ты, дедушка! Чистый председатель! Ей-богу! Тоже минутки покойно не полежит… В Калязин, видишь ли, собирается, плотников подряжать. Клуб задумал по фасаду отделывать. А ну еще, дедушка, вздохни! Только поглубже!
Вздохнул дед Стулов, да так, словно у него внутри пластинку старую поставили переиграть. На патефоне… А потом спрашивает:
— А как рядить собирается? Поденно или сдельщиной? Ох! Не напал бы Петя на лихих живоглотов. На калымщиков.
— Да я почем знаю, — отвечает Вера. — Наверное, сдельщиной. Скорее хочет. И сказала тебе — не болтай! А ну, бабуся, подойди, отвороти-ка ему бороду, а я еще послушаю. Не дыши, говорят!
— Скоро, красавица моя, и вовсе дыхать отстану, — стонет дед. — Участь моя решенная! Ты уж председателя только береги. Чтобы ранее недели и думать не мог с койки слезать. Не угробь Петра Михайловича. Такие люди нам дороже золота… Это чего ж он с клубом-то поспешает?
— Да замолчи ты, старая тарахтелка! — кричит Вера. — Сказано, кончай разговоры — значит, все! Наверно, ко дню нашей армии… Здесь больно?
— Неужто нет, Верушенька! — тужится дед. — Тебе бы так надавить! Так что же он, и наличники резные на окна делать собирается? Ох!.. И не повидать мне больше красы нашей деревенской, любовь ты моя бесценная!..
— Вот что, дедушка, — говорит Веруха. — Это же надо большое жалованье получать, чтобы такую болтовню терпеть… Никак в толк не возьму, что у тебя там внутри происходит?!
Замолчал дед. Долго еще его Вера выслушивала. Уж и так его и этак. А потом вымыла руки, села за стол, из сумки порошки вынула. Четырех сортов порошки. Одни жар снимают. Эти через час принимать по две штуки сразу. Вторые от кашля мягчат — три раза в сутки. Третьи от сердца — эти по мере надобности. А четвертые, особые, — бабке. От расстройства чувств. Наложила Веруха порошков здоровый тюрек и прощаться стала.
— Пока, — говорит, — до свиданьица. Хотела бы деду пожелать скорого выздоровления, да, пожалуй, не получится. Грешу на воспаление легких. Смотрите, лекарств не перепутайте. А больному полный покой: лежать, не двигаться. Если завтра к утру не полегчает, придется в больницу везти. И тогда уж собираться враз — без задержки. Как сказано, так и будете делать.
А сама бабке мигает — выйди, дескать, проводи!
Вышла бабка за ней в сени, а Веруха ей шепотом, чтобы дед не услыхал:
— Ты уж, милая, ко всякому готовься. Разное может произойти. Как-никак человек в закатных годах. Не молоденький. Станет хуже, беги ко мне немедленно. В любой час заходи, потому что мы, сельские врачи, люди отчаянной жизни и рабочий день у нас нормы не имеет.
— Да неужто, — спрашивает бабка, — так плох дедушка?
— Трудно сразу сказать, — отвечает Вера. — Еще неизвестно, в какую сторону повернет. Значит, не стесняйся, а буди, хотя и посередине ночи.
Даже так договорились: если что — бабка прямо в Верухино оконце стучит, чтобы, часом, хозяев не переполошить.
Только эта ночь спокойно прошла. Выспалась к утру Вера, комнату прибрала и чай пить села с молоком топленым. Хозяйка ей еще блинков овсяных принесла. Прямо из печи, даже пар идет. Свернула Вера блин, макнула в сметану, только рот раскрыла и вдруг слышит: в окошко — стук, стук и еще раз — стук!
— Так, — говорит Вера хозяйке. — Выходит, плохи дела с дедом Стуловым. Года все-таки свое берут. В больницу придется класть. Не иначе.
Так в аппетит блинков и не отведала. Шубу надела, пуховую шаль накинула, сумку с инструментом схватила и к бабке выбежала:
— Ну, пойдем скорее. По дороге расскажешь!
А на той лица нет.
— Как же, — говорит, — милая. Я уже совсем думала — полегчало ему после порошков-то. Дедушка, как ты ушла, подряд принимать их взялся. Мои и то съел. Потом его в сон ударило, и уж таково сладко спал, словно младенчик какой. Не храпанул даже. Всю ноченьку спал, а проснулся — и завтрак потребовал. Яишенку я ему толкнула да картошки жареной с солеными рыжиками подала. И молока выпил. А потом сел на койке, руку поднял, глаза какие-то чудные — светятся — и говорит: «Ну вот и все! Отведал плодов земных. Скоро и в путь пора. Ступай к свату Михайле. До поспешай, покуда ему бригадир наряда не выправил. Пусть на чердак лезет. Время подоспело тес скидывать». — Ой, погоди, Верушенька, не торопись!
Оглянулась Вера, а старуха сморщилась да как запричитает:
— А сватушке-то он еще вчера приказывал быть в готовности. Сигналу ожидать, коли дело на последний конец повернет. Михайло ведь из того тесу колодину должен дедушке сколотить…
— Ну, — говорит Вера, — ты все-таки не отчаивайся. (А сама, между прочим, тоже слезинку утирает). Примем меры самые экстренные. Если с сердцем что — укол сделаем. Я и шприц захватила и камфару.
А идти нужно было порядочно. Село все миновать, полем пробежать, потом леском, потом опять полем. А там и Акатово.

День же выпал прямо замечательный. Перепадают у нас такие деньки в феврале месяце, что не хуже иных апрельских.
Ветра нету. Солнышко до того яркое, что смотреть на снега больно, и даже жмуришься.
Дымок из труб прямой струйкой вверх тянется. К лесу в низинке туман лег. А с крыш уже капель первая. На завалинках куры сидят, отряхиваются, меж собой беседуют. А воробьи точно обезумели. И небо голубое, как платок шелковый у дедовой снохи Агашки, что она прошлой осенью в Москве купила.
— Ах ты! — вздыхает Веруха и поглубже в себя воздух тянет. — И выдумают же люди в такую погоду болеть… А это кто же такие около клуба?