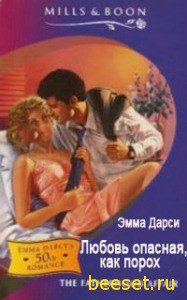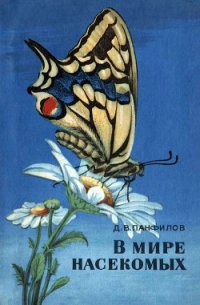Полынь и порох - Вернидуб Дмитрий Викторович (бесплатная регистрация книга TXT) 📗
Но однажды на палубе у люка раздались четкие частые шаги, и в трюм спустился Федорин.
– Расстреляете скоро? – нагло спросил Ступичев, поправляя давно утративший четкость пробор.
Крысоликий полковник зажег керосиновую лампу и уперся глазами-буравчиками в лицо арестанта.
– А что, надоело ждать?
– Надоело.
– Жаль, конечно, но заезжавший недавно немецкий лейтенант попросил пока не спешить. И знаете что? Я, по доброте своей, согласился.
– Шулль был тут?
– Представьте себе. Бедняга потерял из виду донской золотой запас и очень беспокоится. И не только он.
Ступичев ухмыльнулся:
– Сочувствую.
– Зато я теперь знаю, где вторая часть, – Федорин нервно подвигал усиками-бабочкой. Мягкий голос его в момент зачерствел. – Угадаете?
– Нет.
– У полковника Смолякова, мать его! А вы еще живы и баланду мою жрете в тишине…
– Я же сказал, что надоело. Кстати, вы забыли о холоде и сырости.
– Наглец. Ну да ладно, слушайте сюда. Походный атаман собирается вместе с Заплавской группировкой город штурмовать. Естественно, я и штабные будем с ним. Ваша задача: вместе с моими людьми любыми методами установить местонахождение смоляковского схрона. После всех причастных уберете лично.
– Значит, я свободен?
– В пределах нашей видимости. И, чтобы у вас не возникало маниакальное желание сбежать, обещаю: свою долю вы получите. Ну что, добрый я человек?
– Чрезвычайно, – сказал Валерьян, рассматривая усики полковника и прикидывая, кто кого, в конце концов, из них пристрелит: Федорин его или он Федорина. Вывод немного успокаивал: «Шансы примерно равные».
Назвав Ираклия Зямовича Ценципера чокнутым диверсантом, Алешкин однокашник Женька Денисов был весьма близок к истине. Основную часть истины составлял диагноз доктора Захарова: маниакальная шизофрения, сопровождающаяся бредовыми галлюцинациями.
Ценципер явился в полевой госпиталь Южной группы, возникнув, как тень отца Гамлета, из предрассветной степи. Казаки-кривянцы, приняв шатающуюся, перемазанную в грязи фигуру за раненого интеллигента-беженца, препроводили фотографа к дежурным сестрам милосердия. Сестры записали в журнал, что инженер Горский получил огнестрельную рану в шею навылет, и у него нагноение. Раненого обработали и положили в углу на пол дожидаться Владимира Васильевича. Там его, бессвязно бормочущего, обнаружила Уля. Ценципер был в крайней степени истощения физических сил. Прежде чем он начал оживать, прошло больше двух суток, за которые выставленный около него караул успел расслабиться и привыкнуть к мысли, что сбрендивший полутруп, призывающий какого-то сторожа, деться никуда не может. Но на третий день к Ираклию Зямовичу вдруг вернулся разум, хотя и ненадолго.
Придя в сознание, мастер фотографического портрета осознал, что находится не у красных, не у себя в студии, и тем более не у вдовы Семеновой, в доме которой его чуть не пристрелили. У вдовы, купившей-таки себе поросячий выводок, он провалялся еще сколько-то дней, а потом, почувствовав себя лучше, сбежал. Чувствуя себя глубоко несчастным, обобранным до нитки, Ценципер ринулся к аксайскому вокзалу, собираясь ехать в Новочеркасск. Там, лежа на скамейке, он снова вступил в горячечный мысленный спор с кладбищенским сторожем, хрипя и ругаясь.
Красноармейский патруль плевать хотел на «мертвецки пьяного» оборванца, но кладбищенский сторож вдруг потребовал, чтобы фотограф «не отхренобачивал кренделей», а «внял глаголящим антихристам».
Патрульные красноармейцы-рабочие из ростовской Нахичевани между собой материли предателей – немецких камрадов и говорили, что выбитые из Новочеркасска сволочи-казаки накрепко засели в Заплавах, собрав целую армию, а на пароходах с пушками по Дону плавает их гадский Походный атаман, которому Грушевские шахтеры давно мечтают выпустить кишки.
«В Новочеркасске они всех, кого только поймают, к стенке ставят. Я видел. И это еще по-божески, – утверждал старший патруля. – Я бы всю эту буржуйскую кодлу…»
Но узнать планы красногвардейца насчет искоренения контрреволюционного элемента Ценциперу не довелось. Мерзкая, опухшая от пьянства рожа сторожа нагло вползла в сознание, заявив: «Что, домой захотел, недобиток? Поезжай, поезжай, тебя там за ноги подвесят. Не хочешь? Тогда кайзеру пожалуйся, челобитную подай. Он тебя, убивца, вознаградит, – сторож гадко захихикал, – золотишком из могилки!»
При слове «челобитная» Ираклий Зямович почувствовал себя ничтожным смердом и взвыл от жалости к собственной персоне. Ему захотелось прижаться щекой к лакированному кайзеровскому сапогу и молить даровать прощение и остроконечную железную каску. Но в каске, с моноклем в глазу и с большими седыми усами почему-то оказался сторож, всем своим видом олицетворявший мечту о принятии подданства. На груди сторожа висела золотая табличка: «По протекции полковника Федорина».
Икнув от зависти, Ценципер вскочил и со словами «Челобитная! Челобитную не побрезгуйте!», шатаясь, поплелся по шпалам вдаль. Один из красноармейцев прицелился фотографу в спину, намереваясь шлепнуть, но другой отвел ствол рукой: «Не трать патрон, сам сдохнет».
После неудачного идиотического побега из лазарета, закончившегося поимкой, Ираклия Зямовича закатали в смирительную рубашку и заперли на ключ. Поначалу Алешка, Серега и Шурка охраняли его, сменяя друг друга.
Для Лиходедова это был настоящий подарок судьбы. Теперь он мог видеть Ульяну постоянно, а девушка использовала каждую свободную минутку, чтобы заглянуть к своему герою. Она поила его чаем и пыталась подсовывать что-нибудь съестное. Алексей поначалу отчитывал ее за излишнюю заботу, за то, что отрывает от себя, но Ульяна упорно стояла на своем. Пришлось сдаться. Улиного чаю иногда перепадало и Мельникову с Пичугиным, и даже плененному Ценциперу.
Однажды в сумрачном коридоре Лиходедов встретил Пичугина. Алексей отметил, что тот медленно передвигает ноги, безвольно опустив голову. Подойдя ближе, Шурка всхлипнул.
– Шурка, что?
– Журавлева убили. И студентов почти всех. Барашков ранен…
Пичугин сорвал очки и ткнулся мокрым лицом в плечо друга.
– Как убили? – У Лиходедова подкосились ноги.
– Они все там, – Шурка неопределенно махнул рукой.
Оставив плачущего Пичугина на посту, Алексей и Уля побежали на улицу. Перед лазаретом стояли подводы с убитыми и ранеными партизанами. Вокруг суетились медики. Возле одной, прислонившись спиной к колесу, с папиросой в зубах сидел Барашков. Голова Вениамина была забинтована так, что повязка закрывала левый глаз.
– Не знаю, зачем курю, – устало сказал Вениамин, заметив подошедших друзей. – Просто увидел, как другие дымят, и попросил.
Студент снова замолчал, часто затягиваясь и пуская едкие клубы.
– Как же это? – растерянно спросил Лиходедов. Краем глаза он видел тело лежавшего поверх других Журавлева.
– Мы у Бурасовского рудника были. С ходу пошли на красных. Разбили их. Новочеркасский полк в атаку сам полковник Фицхелауров повел. Пробовали закрепиться, но части Семилетова опоздали. От северных поддержки не было. Красные очухались, и давай ломить. Так поперли, что наши на правом фланге драпанули. Нас в клещи взяли, ну и… – Барашков кивнул в сторону убитых. – Меня и Толика снарядом… Я жив, и, говорят, видеть буду, а он…
По правой щеке Вениамина покатилась слеза.
Алешка сжал Улину руку в своей, и они подошли к мертвым партизанам. Журавлев лежал на спине, ближе к краю подводы, и ноги его свисали. На гимнастерке под распахнутой шинелью расплылось кровавое пятно. Уля тихонько плакала, и Алешка чувствовал, что вот-вот разрыдается сам.
Подошли санитары. Двое пожилых мужчин из гражданских стали переносить тела с подводы на землю, укладывая рядком. Мертвые выглядели неестественно и сиротливо, словно жизнь бросила их, как кукушка своих птенцов.
Внезапно Ульяна нагнулась к Анатолию:
– Да он же живой!
Алексей подумал, что у девушки просто сдали нервы, что она упрямо не хочет верить в смерть, но заметил, как у Журавлева шевельнулись пальцы на руке. Уля уже во весь голос звала своего отца.