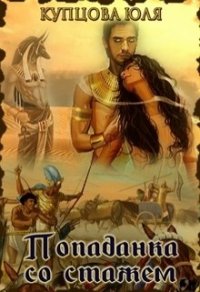О Гриньке, о Саньке и немного о девчонках - Рыжаков Варлаам Степанович (книги без регистрации .txt) 📗
— Ну постой же, не улетай.
Дзи-и-инь! — разбила морозную тишину синица.
— Ну что тебе стоит. А мне…
Я закрыл глаза. Пройти по деревне таким петухом — о-о-о!
У меня аж дух перехватило. Все мальчишки рты поразевают. А Гринька…
До моего слуха долетел далекий, чуть слышный голос.
— Сейчас, Гринь, сейчас, — прошептал я, опомнившись. Выглянул. Птицы нет.
— Ушла?!
Огляделся. Голые осины.
Совсем была моей и ушла.
От досады я пнул Тарзана ногой.
— Ну, чего стоишь, пошли.
Собака рванулась в сторону и потянула меня за собой. Стоп. И тихо-тихо отступил назад. Птица не улетела. Она сидела совсем недалеко от меня, справа, на посохшей осине, за зеленой копной сосны.
Я подтянул к себе собаку, погладил ее, шепнул:
— Она здесь, Тарзанушка, здесь.
Шаг. Еще шаг. Стараюсь не дышать. Тишина. Как дятел, стучит сердце. Шаг. Еще шаг. Только бы не улетела.
Медленно, осторожно отвел за спину перегородившую дорогу ветку. Самопал наготове.
Вот и сосна. Шаг. Еще шаг. Застыл.
— Сидит.
Зажал Тарзана между ног, чтоб не вспугнул птицу. Вынул спички. Вставил самую лучшую спичку под проволоку — «запальник». Просунул ружье сквозь сосновые лапы, прицелился. Руки дрожат. Спокойнее. Шаркнул коробком о спичку. Взметнулось пламя. Я покачнулся и повалился в снег.
Я не плакал. Я даже не чувствовал боли. Меня сковал ужас.
Глаза…
Мне выжгло глаза. Я протирал их снегом. Поднимал пальцами веки. Тьма.
— О-сле-еп?!
Я испуганно вскочил и бросился бежать. Запнулся. Упал. Больпо ударился плечом о ствол дерева. Пополз на четвереньках. Остановился.
Куда я? Что со мной?
В голове гул. В ушах звон, лицо в огне. Нестерпимая резь в глазах.
— Ослеп!
Я зарылся головой в сугроб и заплакал.
Вдруг кто-то потянул меня за подол пальто. Я сжался.
Лязг зубов. Повизгивапие.
— Тарзан!
Я схватил его и прижал к себе.
— Ты не убежал, да? Ты не бросил меня, да?
Тарзан вырвался и снова потянул меня за подол пальто, заурчал.
Я тревожно сел.
— Тарзанка, что ты?
Собака обнюхала мое лицо и сердито затявкала.
Превозмогая боль, я поднял пальцами веки. Блеснул мутный свет и, дрогнув, погас. Мелькнула надежда, и тут же обуял страх. Куда, в какую сторону идти?
Встал.
Тарзан радостно заскулил и запрыгал. Уперся передними лапами в мою грудь, лизнул мой подбородок. Я поймал его, нащупал на шее веревку. Он только этого и ждал. Веревка натянулась.
— Тарзанушка, умница.
Я понял, что он выводит меня из лесу домой. В деревне мое появление взбудоражило всех не меньше, чем пожар.
Подбежал запыхавшийся Гринька.
— А ружье где? — И замолк. Заикаясь спросил: — Разорвало?
— Не знаю.
— Наверно. У тебя все лицо вздутое и как чугун…
— Черное?
— Тише. Отец твой.
У меня задрожали ресницы.
— Папа…
Отец взял меня на руки и быстро зашагал.
— Глаза-то хоть видят?
— Немножечко, пап.
Отец помолчал.
— Непутевый ты уродился. В меня, что ли?
— Наверно, пап.
— Похоронишь ты свою мать заживо.
— А ты не говори ей, пап.
— Я не скажу. Твоя голова ей все скажет.
В больнице врач открыл мне правый глаз, и я увидел печальное лицо отца. Врач спросил:
— Видишь?
— А как же.
Открыл второй глаз.
— Видишь?
— Слеза текет.
— А свет?
— Свет вижу. Желтый.
— Счастливо отстрелялся, охотник.
Гринькины тревоги
Болел я до обидного недолго. Все люди болеют как люди, а на мне заживает, как на кошке. Не любит меня хвороба да и только. Иногда вроде бы и подцепишь грипп, нос уже завалит — дышать нечем. Еще бы самую малость — и можно в школу но ходить. Так нет. Чихнешь раза два, высморкаешься как следует — и все прошло. И голова никогда не болит. Ну что это за голова! Вон у отца чуть ли не через день в висках стучит. А у меня хоть бы разок стукнуло.
И так вот всегда.
Кому охота похворать — не хворает, а кому страсть неохота — из больницы не вылазит.
Мать как-то порезала хлебным ножом палец на правой руке, так целый месяц охала. Палец неделю нарывал, неделю прорывался нарыв, а потом прорвался и две недели подживал.
Ежели бы у меня так-то.
Но у меня так не болит. А то бы я весь ходил в болячках.
Однажды, верно, и у меня вскочил чирей. Огромный такой. Но бестолковый. Выскочил не на пальце и не на ноге, а на шее. Нашел тоже место. Какой от него прок на шее-то? Только учителям в школе радость. Преподаватель по литературе посмотрел тогда на меня и многозначительно изрек:
— И от фурункулов, оказывается, бывает польза великая. После урока он подозвал меня к столу и все внушал, что чирей-де трогать никак нельзя, а резать и тем более. Что яблоку необходимо назреть, тогда оно упадет само.
Но я не послушался совета и тут же сходил в больницу. Охота больно сидеть на уроках истуканом.
— Разрезал все ж таки, — строго спросил учитель на другой день, когда я обернулся на заднюю парту.
Я встал.
— Разрезал, Пал Петрович.
— Оно и видно. Садись.
— Он уж подживает, — улыбаясь во весь рот, сообщил я.
— А жаль.
Класс всколыхнулся от хохота. Но я не обиделся. Пал Петрович — он шутник. Его все любят. И я тоже, хотя и живем мы с ним не особенно дружно. Я-то ничего. Он что-то все сердится.
В прошлом году он задал нам на дом прочитать «Тараса Бульбу» и рассказать своими словами. А я не прочитал. Почему? Не помню. И конечно, он меня вызвал к доске, спросил:
— Понравилось произведение Гоголя?
— Ище как, — не моргнув соврал я.
— Рассказывай.
— Чего?
— О чем читал.
— О Тарасе, — шепнули с первой парты.
— О Тарасе, — повторил я.
— И что же?
Я молчу, уши навострил. Шепот:
— У него было два сына.
— У него было два или три сына. — «Три» я добавил на всякий случай. Я недослышал сколько.
— Что? Повтори-ка.
На задней парте Гринька показал два пальца.
— У него было два сына.
— Так, продолжай.
Я прислушался. Ни звука. Плохо. Начал соображать. Почти все взрослые книжки кончаются женитьбой. Гоголь был серьезным писателем, значит, должен кончить как и все.
— Что же дальше было?
— Дальше?
— Да.
— Тарас женился на Бульбе.
— О-о-о! — вскрикнул учитель и под громкий хохот выбежал из класса.
Во время перемены в преподавательской раздавались стоны. По классам учителя расходились с опозданием, с заплаканными глазами.
Павел Петрович зашел к нам за портфелем, сказал:
— Памятник тебе, Щепкин, надо поставить.
Повернулся и молча вышел. С тех пор он часто вспоминал обо мне. Я его, как видите, тоже не забываю.
Не был в школе всего десять дней и уже говорю о нем. А у меня есть события и поважнее.
Во-первых, все мальчишки нашего класса ходили к арифметичке колоть дрова. Настукали дров, говорят, не так много, а конфет съели целую поленницу. Мне и то принесли — вкусные.
Во-вторых, Тарзан теперь мой и никому я его не отдам. Я сделал во дворе для него конуру (отец велел), но Тарзан в ней мало бывает, а больше со мной в комнате. Он стал гладким. Поправился. Предан мне, как собака. И удивительно: у него появилась злость. Тронешь меня — зарычит. Прошлый раз Васек в шутку толкнул меня, так ушел домой со слезами: Тарзан отхватил у него полштанины.
В-третьих, и это самое ужасное, Гринька влюбился. И на этот раз, пожалуй, без возврата. Влюбился по самые уши. Эх, Гринька, Гринька. Жалко мне его. Друг все ж таки. Но что поделаешь? Он и сам не рад. Он и сам не понял, как все произошло. Он вообще в этом смысле бестолковый. Полюбит и сам не знает за что. Увидел девчонку незнакомую и сразу втрескался. Разве так можно?
— Не, Сань, я не сразу, — оправдывался Гринька.
— Как же не сразу, коли она только приехала.
— Она, Сань, не только. Она в тот день, как мы на охоту ходили.