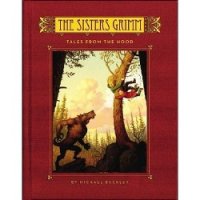Когда деды были внуками - Сапронова Надежда Алексеевна (библиотека книг бесплатно без регистрации .txt) 📗
Сыну никаких обнов не полагалось: придет, в чем лето ходил. Чай, не в гости идет, а домой.
Бабка еще ночью углядела снег в окошке и тотчас спустила ноги с полатей, хоть старушечье тело и просилось еще отдохнуть. Охать и кряхтеть по-старушечьи бабушка тоже себе не позволяла: кашлянет басом, ежели что, вот и все! А отец — если не спит — знает уж: кашлянула — значит, встает.
— Что рано встаешь, мать? — тихо окликнул он ее с печки (недужилось ему с вечера: лег с детьми на печку).
— Снег, сынок! Снег выпал! За телушкой тебе идти. Вот я сейчас поснедать спроворю.
Отец тотчас же слез с печи, поглядел в окно, тихо порадовался. Но и вздохнул: много снега-то! Раскиснет к полудню — грязища-то какая будет!
Бабка ответила бодро, громким «нарочным» голосом:
— А тебе впервой, что ли? Не бойсь, дойдешь. На селе заночуете, а завтра — и дома!
Потом спросила потише:
— А сам-то ты каков нынче: не трясет?
— Нет, мать, бог миловал: все в порядке, — отвечал, суетясь, отец.
Быстро поел, не мешкая в дорогу вышел, еще по снежку.
Впрочем, уже с первых шагов было ясно, что под снегом — вода. Вода мешалась с грязью, грязь — со снегом. К полудню снега уже не было, а стояло по всей дороге море разливанное грязи.
О телушках и хозяевах
Крепко хватает за ноги вязкая черноземная грязь, каждый шаг приходится брать с бою, а шагов в двадцати километрах многовато… Но отец идет, не щадя сил, не замечая препятствий, видя перед собой лишь цель своего пути и своей жизни — телушку.
За долгие часы одинокого пути Ермолаич припомнил многое. Это была не первая телушка, из которой он пытался вырастить корову. Взрослую, дойную бедняку разве купить?
Первую он взял, под работу, у соседа-богатея в первый же год своей женатой жизни. Как радовалась его молодая жена, ведя телку домой! Как трудились в это лето их молодые сильные руки, отрабатывая телушку и ее будущий зимний корм!
А телушка, перейдя с вольной травы на выеденное и вытоптанное общинное пастбище, взяла да и зачахла… За лето ни разу досыта там не наевшись, она вошла в хлев на зимовку жалким заморышем, и холодный щелявый хлев докончил остальное: к февралю ее не стало. С ней погибли девятимесячные труды хозяев, погибла мечта. Долго потом украдкой плакала молодуха и молча вздыхал молодой…
Через пять лет попытку повторили — кончилась тем же. Так и не узнали Гавриловы ребята — а их было уже трое — вкус молока. А родители их и бабка частенько обходились и без хлеба: надо было оделить им, хоть по кусочку, просящие детские рты.
Дальше бегут неотвязные мысли… Клонится книзу непривычная к ним голова…
А ноги все месят и месят непролазную черную грязь…
Шли года. Дети прибывали, как опята на пне. Бабка и днем и ночью нянчилась с внучатами, отец с матерью еле управлялись зарабатывать хлеб по людям, мечта о корове померкла. А там умерла мать…
С тех пор прошли четыре тяжких года…
И этой весной, вынянчив последнюю внучку, бабка настояла снова взять телушку. Третью. Последнюю в ее жизни.
Все было обдумано на семейных советах. Учтены все ошибки прошлых попыток и главная из них — пастьба на общинном пастбище. И семилетний Савка пошел в полугодовую кабалу за право телушки пастись на просторном, свежетравном кулацком пастбище. Выходится, заправится телушка летом, наберет сил — выдержит и зиму.
Все оставшиеся дома — от стара до мала всеми силами и средствами готовили телушке зимовку.
Бабка и шестилетняя Апроська обшарили за лето все межки, все канавы, вырывая вручную, по кустику, траву на сено. Руки их от мозолей, земли и «зелени» стали похожи на куриные лапы, по выражению Апроськи, а старая бабкина спина, согнутая крючком при этой работе, долго потом не хотела разгибаться.
Остальные дети и отец ходили на всякую работу по приглашению соседей, лишь бы заработать охапку сена или вязанку соломы.
И к зиме на задах двора выросла копешка сена и побольше — соломы. «Пожалуй, и хватит! Вот только хлев! Горе-горькое». Отец, повеселевший было при воспоминаниях о запасенном телушке корме, снова поник, вспомнив про хлев. А ноги все шагают! Хлев. Старый, щелявый, с прогнувшейся крышей и покосившимися стенами, хлев давно уже не поддавался никаким попыткам утепления. Сгнившие бревна рассыпались в труху и не держали заплат, крыша грозила обвалом… Но трудолюбивые руки отца все же ухитрялись латать, подпирать, связывать — и хлев стоял, наклонившись вбок, как подвыпивший человек, и пестря заплатами, как лоскутное одеяло. Снаружи, в безнадежных местах, его подвалили навозом и плетнем.
Особенную изобретательность отец проявил нынешним летом, и если бы хлев смог удержать все вбитые в дыры пуки соломы и чурки, телушка перезимовала бы в нем беспечально. Но отец знал: кроме него, у хлева есть и другой хозяин — ветер, а тот все переделает по-своему: расшатает бревна, выбьет чурки, заново перетрясет ветхую солому крыши и вырвет оттуда соломенные затычки. А тут и дружок его явится: дождь. И начнут они вдвоем хозяйничать: один размывает, другой развевает — вот и дорожки в хлев проторены!
А там уж обоим вольно станет и в хлеву хозяйничать; дождь будет коровушке спину поливать, а ветер сквозняком ей бока прохватывать. А той день ото дня тошней да тошней будет: вот и сгинула коровушка!
Шагают ноги, ежится отец от этих мыслей, а уйти от них некуда: мелкий безотвязный дождь все время их нашептывает. Он давно уж смочил мешок, прикрывающий голову и спину, и теперь пробирается за шиворот.
Поползла по худой спине холодная струйка, но, и ощущая ее, отец думает не о своей спине, а о телушкиной.
Тосклива одинокому дорога меж пустынных осенних полем и хмурого неба. Идет он средь них, как чужой, ненужный, непрошеный, и земля вешает ему на ноги пудовые гири, ходу не дает. Еле плетется путник, с трудом вытаскивая из грязи натруженные ноги, а ветер-озорник то мешок с головы сорвет, то шапку, то разорвет одним взмахом тучу и, воротясь вниз, размахнет полы ветхого армяка и змеей прильнет к телу… И отец живо представляет себе, как этот ветер зимой будет куражиться над его телушкой в дырявом хлеву., засыпая ее спину снегом. Ежится и вздрагивает измученный человек — от холода ль? От мыслей? И спешит, спешит…
Дойти бы засветло… Взглянуть на телушку… Но как ни понукал Гаврила Ермолаевич свои усталые ноги — засветло он не дошел. Телушку в тот день не увидал: она уже стояла в хлеву, а беспокоить хозяев Ермолай не посмел: бедняк для кулака не гость, которому всегда рады.
Стал в раздумье перед закрытыми воротами двора: к кому идти ночевать? Бедняков и в этой деревне было достаточно, и у любого из них нашелся бы для отца угол. Он молча зашагал на самую окраину деревни. Там на отлете стояла хата старика бобыля, мимо которой, по расчетам отца, его телушка должна была ежедневно проходить на пастбище. «Заприметил, чай, телушку-то: узнаю пока чего ни на есть…»
Все сбылось так, как Ермолаич предполагал. Даже лучше: бобыль Евсеич расспросов не ждал, отлично понимая самочувствие гостя и всецело его разделяя, и, пока отец разувался, он успел уже порадовать его наиподробнейшим описанием превосходных качеств его телушки. У отца сразу посветлело на душе, как от солнечных зайчиков на стене. Он даже встал с лавки и прошел взад-вперед по хате, забыв усталость. Затем хозяин принес для постели два снопа тощей, низкорослой ржаной соломы и поставил их по привычке к печке погреться, хотя печка не топилась с весны.
Поужинали холодной хозяйской картошкой (картошка варилась на крохотном очажке, по утрам) и отцовским хлебом. У хозяина его не было: одинокий старик прихварывал и не мог съездить на мельницу смолоть мучицы из нового зерна. «А оно и лучше: хлеб целей. Все одно до новины наполовину не хватит».
Сказано это было без всякого уныния, больше для сообщения, чем для жалобы, и тотчас же беседа пошла на другую, дорогую им обоим тему: хозяйство с коровой.
— Корова, она, брат, и мучицы тебе добудет, и солицы. Снял сливочек, сбил маслица — на базар его! А оттуда и привезешь себе что надобно! А ребятишки-то и снятого молочка похлебают — все одно белое! — говорил Евсеич. — Вырастет — телята пойдут. Продержишь до осени — вот тебе и мяса кусок.