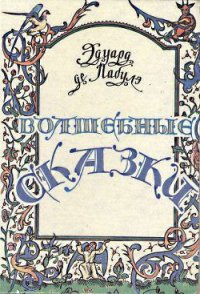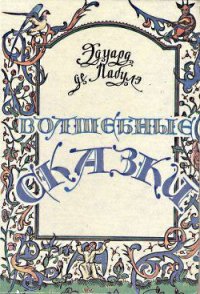Сказки - де Лабулэ Эдуар Рене Лефевр (читаем книги .txt) 📗
— Дальше, дальше, — сказал Гиацинт, зевая, — я уж знаю ваши лестницы инспекторов.
— Система хорошо придуманная, — воскликнул барон Плёрар, — но с нею мы ещё остаёмся далеко позади удивительной полиции японцев. В их счастливой стране закон, относясь с справедливым недоверием к врождённому коварству людей, превращает каждую отдельную личность в соглядатая, обвинителя и судью соседа, Надзор всех за каждым и каждого за всеми — вот идеал единоличного правительства. Дойдём ли мы до него когда-либо?
— Я продолжаю, — сухо промолвил Туш-а-Ту.
«Статья 4, Заботами правительства будет учреждена официальная библиотека, заключающая в себе все образцовые произведения человеческого ума, тщательно пересмотренные, исправленные и очищенные. Одно это издание будет иметь обращение в государстве; все предыдущие издания будут вывезены за границу и уничтожены в течение года, под страхом штрафа и тюремного заключения.»
— Любезный сослуживец, — перебил барон, — при всём моём восторженном уважении к вашему гению позвольте мне сказать со всею откровенностью: вы слишком любите свободу.
— Подобное подозрение!.. — сказал Туш-а-Ту.
— Да, — закричал барон, — в вас ещё не умер ветхий человек; у вас нет той непоколебимой логики, которая доводит идеи до самого конца. Так как правительство обладает всею истиною, то какая ему надобность предавать её на суетное суждение толпы? Любопытство еретично; учёность — дело дьявольское и революционное. Всякое чтение — яд; всех счастливее тот народ, который читает как можно меньше; всех добродетельнее тот, который совсем не читает.
— Я смотрю иначе, — сказал Туш-а-Ту, — я думаю, напротив того, что государь возвеличивает себя, оказывая покровительство литературе и искусствам. Весь вопрос в том, чтобы направлять их с кротостью и делать из них орудие нравственности и правительства. Литература составляет отраду Ротозеев, я не хочу отнимать у них это невинное удовольствие; я думаю, что государю свойственна роль Мецената, или, точнее, Августа, платящего за любовные песни Горация и за невинные георгики Вергилия.
«Статья 5. Для поощрения литературы и окрыления гения основываются две большие ежегодные премии: одна по части поэзии, другая по части красноречия.
Для соискания премии красноречия предлагается написать речь в ответ на прекрасный вопрос: Какой теперь первый народ на земном, шаре? Для премии но части поэзии предлагается написать разговор двух пастухов О новой звезде, показавшейся на небосклоне Ротозеев.»
— Как вы неосторожны, — закричал барон, — вы играете огнём; вы революционер, сами того не зная; это самая опасная порода революционеров. Опасность не в предложенных темах, а в зуде писания, который вы прививаете тщеславному народу. Вы возбуждаете презрение к невинности и простоте, обычным спутницам невежества. Вы поощряете пытливость, ухищрённость, знание, которые влекут за собою лукавство, гордость и мятеж. В блаустроенной стране какал надобность потакать всем этим литературным трутням? Требуются только работники, чиновники и солдаты.
Наконец королю надоело сидеть в совете, и он, прекратив все изложения мотивов и прения о представленных проектах, стал тороплива подписывать, не читая, все бумаги, подносимые ему графом Туш-а-ту.
V. Адвокат Пиборнъ показывает Гиацинту игру политического красноречия
— Поговорим теперь свободно, — сказал молодой король, окончив подписывание очередных бумаг. — На мой взгляд, административное искусство очень похоже на умение устраивать пляску марионеток. Весь секрет в том, чтобы везде привязывать невидимые нитки и потом дёргать их вовремя.
— Государь, — вскрикнул барон дребезжащим голосом, — позвольте мне пролить слёзы радости и восторга. Вы одним словом изволили определить административную политику, единственную политику, достойную этого имени. Никогда никто не делал более прекрасного и верного сравнения.
— Таково и моё скромное мнение, — сказал Туш-а-Ту, — только здесь сцена так обширна, а актёры так многочисленны и подвижны, что повелевающая воля нуждается во многих тысячах повинующихся рук.
— Вы забываете, — с благосклонной улыбкой промолвил Гиацинт, — что необходимы также зрелые и осторожные умы, просвещающие эту молодую волю своими советами. Я этого не забуду. Благодарю вас за оказанное мне добросовестное содействие. Жалею только о том, что господин кавалер де Пиборнь хранил такое несокрушимое молчание; он не дал нам услышать тот красноречивый голос, который составляет предмет восторга для Ротозеев.
— Государь, — сказал адвокат, поднимаясь с места и поворачивая стул, чтобы превратить его в трибуну, — я никогда не говорю в совете; что там делается, то до меня не касается; я изо всего прения не слыхал ни слова.
— Но ведь вы же должны, — проговорил молодой король в изумлении, — защищать эти законы перед нашим парламентом?
— Без сомнения, государь, — ответил Пиборнь, — именно поэтому я особенно сильно стараюсь о том, чтобы нисколько не знакомиться с их смыслом и содержанием. Если бы, — продолжал он, возвышая голос до крику и ударяя кулаками по спинке стула, — если бы я старался установить и поддержать солидарность моих мнений с воззрениями министра-законодателя, то могла бы получиться следующая невыгодная компликация: при случае воззрения министра могли бы подвергнуться изменению, и тогда эти неотразимые усложнения запутали бы туго натянутые нити моей аргументации.
— На каком вы языке говорите? — спросил Гиацинт.
— Государь, это парламентская тарабарщина. Нам необходим этот жаргон, — чтобы пропускать наши маленькие идеи под прикрытием крупных и трескучих слов, чарующих впечатлительный народ, которого детство убаюкивалось звоном колоколов и грохотом барабанов. Но, чтобы угодить нашему величеству, я готов решиться на все и буду даже, если прикажете, говорить, как простой смертный.
— Сделайте одолжение, потрудитесь мне отвечать серьёзно. Как же вы осмеливаетесь утверждать, что будете защищать закон, которого вы даже не читали?
— Упаси Боже! Смею ли я говорить с вашим величеством без должного благоговения? Я говорю со всею серьёзностью адвоката. Ваше величество тотчас оценит справедливость моих слов. Вот весь секрет красноречия, — прибавил он, бросая на стол колоду карт. — Я берусь в один час разъяснить кому угодно искусство водить и соблазнять всех Ротозеев, прошедших, настоящих и будущих. Соблаговолите заметить, государь, что эта игра изображает всю риторику. Каждая из этих карт содержит аргумент. Вот три парика, надетые один на другой. Это — мудрость и опытность наших отцов, здравомыслие наших дедов, степенство доброго старого времени. Эта женщина с завязанными глазами и с наклонённым ватерпасом в руке — это святыня закона, неотменный закон, на который только нечестивец может поднять свою дерзновенную руку. Эта труба, из которой выходят слова: честь, добродетель, патриотизм, нравственность, изображает собою министров и всю административную армию, которой непогрешимые солдаты многочисленнее звёзд небесных и песков морских. Взгляните на этого ребёнка: он не хочет сказать А, потому что иначе его заставят сказать Б; это — счастливая простота и святое неведение, Эта Медузина голова, вся увенчанная змеями, это — клеветник, человек, заподозренный в дурных намерениях, враг государства — словом, тот, кто с нами не согласен. Этот колодезь изображает бездну погибели, где дракон революции, скрежеща окровавленными зубами, поджидает, как верную добычу, первого дерзновенного человека, который осмелится шевельнуться. На этом знамени написано: кто нападает на нас, тот нападает на правительство. Вот скипетр анархии, и в отдалении эшафот; эта отравленная чаша и на ней, крест-накрест, кинжал и факел — это печать, её всякий узнает. Полюбуйтесь на эту кокетку; она смотрится в зеркало и говорит про себя: весь свет мне завидует: это — счастливая нация Ротозеев, Этот отдыхающий вол пережёвывает жвачку и мычит: зачем менять, когда и без того хорошо: это эмблема тех солидных и практических людей, которым приобретённое состояние внушает наклонность к спокойствию, На этой карте улитка с надписью: спеши медленно; а на этой любовная записка, и на печати слова: не сегодня! позднее! Вот фантастические звери: грифоны, химеры, гиппогрифы, сфинксы, это — теории, видения, утопии всех этих мечтателей, нарушающих сон народов. Наконец, являются четыре туза: черви — благочестие, бубни — нравственность, трефы — правительство, пики — общественный порядок, И вот, в заключение, венец здания, главный онёр, важнейшая карта, закутанная фигура; нельзя распознать ни лица, ни стана; зовут её разумная свобода.