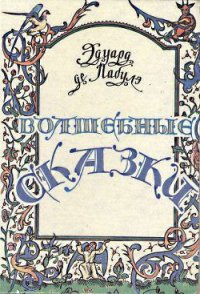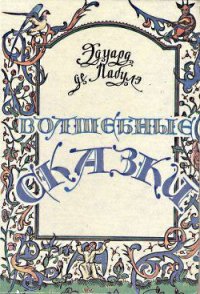Сказки - де Лабулэ Эдуар Рене Лефевр (читаем книги .txt) 📗
Теперь, государь, тасуйте, снимайте, и я берусь, выхватывая наудачу одну карту за другою, произнести министерскую речь не хуже всех тех, которыми восхищались в течение последнего столетия.
— Всё это, конечно, остроумно, — сказал Гиацинт, немного заинтересованный, — но вам всё-таки надо же говорить о том законе, который вы защищаете.
— Я глубоко сожалею о том, что так дурно объяснился, — ответил Пиборнь, — Сила этих карт или этих великих общих мест состоит в том, что ими можно защитить или опровергнуть что угодно и выиграть процесс, ни разу не заглянувши в подлинное дело. Пусть ваше величество соблаговолит испытать меня: задумайте какой-нибудь закон, и пусть каждый из моих уважаемых сослуживцев поступит точно так же, я берусь тотчас защитить против нападения оппозиции, одною речью, все три закона, о которых я сам не имею ни малейшего понятия. Смею даже надеяться, что ваше величество не останетесь недовольны этим маленьким опытом. Скажу без хвастовства, я порядком попользовался уроками Цицерона и не думаю, чтобы я был не искуснее моих славных предшественников.
— Хорошо, — сказал король, — я задумал закон. Защищайте.
— А главное, — прибавил барон, — не оттягивайте времени, чтобы приготовить заранее вашу импровизацию.
— Барон, — сказал Пиборнь, — плохо вы меня знаете. Разве я когда-нибудь говорил подумавши? Слушайте: палата потрясена пламенным словом самого искусного оратора оппозиции, министерский проект находится в опасности, предлагают смелую реформу, я всхожу на трибуну и начинаю скромно, по правилам искусства. Друг Плёрар, разложите карты на столе. Хорошо, вот мои аргументы выстроены в шеренгу. Сейчас начнётся церемониальный марш.
Милостивые государи.
Я выслушал с напряжённым вниманием речь почтенного депутата, только что сошедшего с трибуны. Сознаюсь чистосердечно, никогда ещё искусный оратор не поднимался так высоко; он превзошёл самого себя. Я не был бы Ротозеем, если бы я мог сопротивляться стремительному потоку этого красноречия, которое увлекает и возносит вас на самые недосягаемые выси идеала; но долг велит государственному человеку бороться с роковым могуществом этих чар; он призывает к себе на помощь и выслушивает только внушения холодного рассудка. Проведённая через это горнило речь моего уважаемого противника — скажу безбоязненно — не выдерживает испытания, Я вижу в ней только глубокоогорчительное злоупотребление несравненного дарования.
Какова в самом деле та система, которую уважаемый оратор противопоставляет мудрым предначертаниям правительства? Я определю её одним словом: это — нововведение, или, если назвать её настоящим именем, это — революция.
— Браво, — закричал Плёрар, — давите нечестивую, добрый друг мой, давите нечестивую!
— Будете ли вы утверждать, — продолжал Пиборнь, воодушевляясь, — что защищаемые вами идеи не новы? Нет, вы гордитесь их новостью; но, говоря откровенно, думаете ли вы, что открытия ещё возможны в политике, в этом устраивании общественных интересов, которое является только приложением опыта и здравого смысла? Если бы предлагаемая вами мера была спасительна, неужели вы думаете, что она укрылась бы от мудрости и опытности наших отцов, от здравомыслия наших дедов, и осмелюсь выразиться устарелым словом, от степенства доброго старого времени. Как! Маститые основатели наших учреждений проходили мимо этих великих идей, не замечая их, а нам, измельчавшим сынам столь славных отцов, предопределена была неувядающая слава такого открытия?! Будем скромнее, милостивые государи; тщеславные самообольщения вовсе не пристали такой стране, которая столько раз была потрясена губительными переворотами. Среди этих развалин, нагромождённых на развалины, одна скала осталась непоколебленною: это — закон, закон, священное наследство наших предков, которое мы должны передать нашим детям. Исправлять повреждения, сделанные временем, приводить обратно закон к его первобытной чистоте, как предлагает правительство, это — дело сыновней любви; опрокидывать этот гранитный столб, на котором всё держится, это — нечестие, это — поругание святыни… Вы не имеете права разрывать связи с прошедшим…
Что составляет основной смысл этой меры? Не что иное, как чувство недоверия к правительству его величества. Не освобождение народа составляет цель ваших усилий, вы это знаете; вы стремитесь к тому, чтобы поработить министров и администрацию. И с какого права? Я понимаю предосторожности, когда грозит опасность, но обращаюсь к беспристрастному большинству этой палаты, к этому мужественному, просвещённому, скромному большинству, которое уже так давно защищает вместе с нами общественный порядок. Разве ж оппозиции принадлежит, в самом деле, монополия добродетели, чести, патриотизма, нравственности? Разве патриотизм большинства, разве преданность министров не составляют первую и самую надёжную из всех гарантий?
— Очень хорошо, — сказал Туш-а-Ту.
Нет, палата не увлечётся этими обольстительными миражами. Если бы сегодня она имела слабость уступить, завтра же эти же люди, упоённые своею победою, предложили бы ей новые реформы, которые она уже напрасно старалась бы отклонить. Если вы не воспротивитесь с первого шагу, когда же вы остановитесь, милостивые государи? Когда будет уже слишком поздно, когда вы будете пущены вниз по наклонной плоскости, которая роковым и неудержимым образом ведёт в бездну революций. Вас стараются успокоить, говоря вам, что эти реформы невинны, что они давно уже получили силу закона у соседних народов, что они разливают повсеместно довольство и благосостояние. Это всё, милостивые государи, старые софизмы, которым никогда не поддавались наши предшественники. Ротозеи — первый народ земного шара; мир им завидует; мы — старшие дети цивилизации; мы — образец наций; они должны нам подражать. Не нам идти по следам отсталых народов. Я отталкиваю эти сомнительные дары; та рука, которою они предложены, усугубляет мои опасения, и кроме того, я говорю откровенно, прямодушно, как истый Ротозей, что мне приятнее заблуждаться вместе с моею родиною, чем обладать истиною вместе с чужеземцами.
— Браво, — сказал барон, рыдая, — если это не патриотизм, так уж я ровно ничего не смыслю.
Будем последовательны, — продолжал Пиборнь. — Разве мы не счастливы? Разве талант не на своём месте? Разве доходы от налогов, разве полезные расходы не возрастают с каждым годом? Разве тысячи иностранцев, отдавая дань уважения нашему превосходству, не приезжают каждую зиму менять своё золото на наши развлечения и празднества? Разве мы не снабжаем весь мир нашими модами и нашим остроумием? Чтобы удовлетворить беспокойному и ревнивому честолюбию немногих отдельных лиц, неужели мы будем опрокидывать то гордое здание, которое укрывало наших предков и будет осенять наших потомков?
Нет, пока у нас останутся силы и голос, мы не потерпим, чтобы дело администрации отделяли от дела страны. Без честолюбия и без малодушия мы будем сражаться со всею энергиею, твёрдо решившись ни под каким видом не отказываться от нашего мест, и непоколебимо уверенные в том, что защищая наш портфель, мы защищаем в то же время общество.
— А у этого молодца в самом деле большой талант, — пробормотал Туш-а-Ту, продолжая подписывать.
Говорят о слепом сопротивлении, об упрямстве, о закоснелости, — продолжал Пиборнь растроганным голосом и в наставительном тоне, — но разве ж можно в самом деле подумать, что этот упрёк попадает в нас? Разве слеп тот, кто освещает себе дорогу? Разве упрям тот, кто старается быть осторожным? Мы ничем не хотим спешить, потому что опасаемся последствий; только честолюбие и дерзость пускаются в путь, не зная куда идут. Говорят, что мы не либералы; я отклоняю это обвинение, как обиду. Я ненавижу нововведения, я этого не скрываю — но я люблю улучшения. Я боюсь внезапных реформ, история научила меня, куда они ведут нации; моим девизом я беру слова поэта: