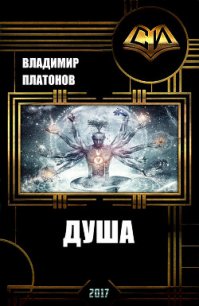И у палачей есть душа - Гиртаннер Маити (читать книги без .TXT) 📗
Да, я разговаривала с немцами; хуже того, я была с ними приветлива, я им улыбалась, значит, я была на их стороне. Конечно, все это я узнала только после войны. У некоторых даже хватило честности после освобождения признаться мне в таких мыслях и попросить у меня прощения. Я еще вернусь к этому. Во время оккупации я оставалась в полном неведении обо всем, и это было к лучшему. У меня хватало забот с тем, что могли узнать немцы, не хватало еще беспокоиться о том, что думают обо мне некоторые французы.
Сомнение было нашим самым коварным врагом в то сумрачное время. С течением лет, по мере удаления от событий, тень и свет стали различаться со все большей уверенностью, граничащей с упрощенчеством. Верное суждение — самое трудное, когда находишься в центре событий, ошибочное же суждение приходит с наибольшей легкостью. Я это испытала на себе.
В первые недели оккупации я попыталась защитить моих друзей Вержи. Их замок заняли немцы. Вержи этого не хотели и не просили! Подобно нам, они не могли воспрепятствовать присутствию оккупантов.
Как мэр Бона, Ангерран де Вержи должен был стараться действовать так, чтобы все происходило наилучшим образом, чтобы над населением как можно меньше издевались. Для этого следовало разговаривать любезно, изыскивать соглашения и, желательно, выглядеть довольным. На его предприятии в Сюзе работало двести пятьдесят рабочих. Сохранение их рабочих мест также было его долгом. Вержи были патриотами до глубины души. Они сохраняли приличествующий такой семье облик, и это позволяло им постоянно помогать людям, в особенности самым обездоленным. Из смирения они никогда ни слова об этом не говорили, и я глубоко уважала их скромность.
Позднее, в шестидесятые годы, напиток из корней горечавки (который изготовляли на фабрике Вержи) был запрещен, и у семьи Вержи возникли большие финансовые трудности. Им пришлось отказаться от марки и продать замок Туфу, который с 1923 года был причислен к историческим памятникам. Кажется, в 1968 году замок купила вдова американского издателя Дэвида Огилви.
Часто я приходила в полдень в Туфу позавтракать с мадам де Вержи. Поскольку она не говорила по-немецки, ее управляющий или я служили ей переводчиками. Замок переполняли солдаты. Хозяйка замка составила список всего, что они у нее просили, и всего, что она хотела им сказать по поводу правил поведения, которые, как она надеялась, они должны были соблюдать, живя у нее в замке, а мы переводили для обеих сторон требования одних и просьбы других.
Так я начала приносить пользу, играя роль переводчика и посредника. С первых дней установления демаркационной линии Вье Ложи превратилось в бюро жалоб и информации. Вот семья землепашцев в отчаяньи, потому что у них реквизировали единственную лошадь, другая семья, лишившаяся доступа к собственному полю, оказавшемуся по ту сторону демаркационной линии, семья, попросту не понимавшая требования немцев, высказанного угрожающим тоном… Была также одинокая женщина, не сумевшая получить продовольственную карточку.
Я отправилась защищать их дела в суде. И здесь сочетание уступчивости и сопротивления оказалось полезным, так как чаще всего я получала то, чего просила.
— На что это похоже, забирать у людей их скотину? Она им нужна, они без нее работать не могут, — объясняла я ответственным за зону. Начальство тревожилось, что люди могут использовать лошадей для перехода в свободную зону. — Вам достаточно каждый день считать животных, чтобы убедиться, что они все на месте.
— Хорошая мысль. Я об этом не подумал, — ответил мне один из них.
— Посмотрите на них, это люди необразованные. Они не занимаются политикой. Им наплевать на войну. Они хотят просто мирно работать. А вы-то, что вы выиграете, если поля останутся необработанными? Сразу видно, что вы не деревенские люди. Вы же ничего не понимаете ни в ритме сельского хозяйства, ни в его нуждах — говаривала я часто. Таким образом удавалось избежать реквизиций. Люди были мне благодарны.
Для того, чтобы продолжать ходатайствовать, предвосхищать притеснения и ущемления прав местных жителей и препятствовать этому, нужно было постоянно поддерживать иллюзию доверительных отношений с немцами.
Как ни странно, проще всего это было с теми, кто жил в нашем доме. Нашими вынужденными гостями чаще всего оказывались офицеры высоких чинов, то есть люди из хорошей среды, получившие светское воспитание. Это имело значение, в особенности для моей бабушки — ей было важно, чтобы люди были обходительны и соблюдали правила вежливости. Конечно же, не было и не могло быть согласия, но отношения были корректными, нередко достаточно теплыми. В Вье-Ложи существовало примерно то же социальное взаимопонимание, что сближало Пьера Френе и Эриха фон Строхайма в «Великой иллюзии», великолепном фильме Жана Ренуара.
Важнее всего было задобрить немцев с контрольного поста в конце моста через Вьенну. Ведь я каждый раз должна была останавливаться, чтобы показать документы и разрешение на пересечение демаркационной линии.
Я пользовалась этим и каждый раз вступала с ними в беседу. Для них война была чем-то маленьким и скучным, время тянулось долго, и они были рады с кем-нибудь поговорить.
Разумеется, я говорила с ними по-немецки, тогда получалась настоящая беседа, мы не просто перекидывались парой слов. Я играла на самых тонких струнах их души, расспрашивая о семьях, о тех, кто им дорог, женах и детях, от которых они были так далеко. «Вам не слишком трудно? Вы, наверное, так скучаете! Получается им писать?» Вызывая у них жалость к самим себе, я надеялась, что тогда у них появится больше понимания и сочувствия к нашему положению. Я хотела, чтобы они поняли, что война тяжела и трудна для всех. Я хотела пробудить в них сострадание. Усыпляя их бдительность, я, в первую очередь, стремилась оградить себя от каких-либо подозрений, чтобы спокойно продолжать свое дело.
Так и произошло… И слава Богу! Ведь суть моих поездок в Шовиньи постепенно изменилась. По-прежнему нужно было доставлять в Бон необходимые продукты, но теперь дело этим не ограничивалось. «Не хлебом единым жив человек». Он нуждается в средствах, чтобы жить. Но он нуждается также в том, чтобы знать, зачем жить. Он должен питать свое тело. Но он также должен отстаивать свои основания для существования и надежды.
Итак, вскоре мне стали давать письма для передачи. Письма, которые члены семьи, жившие в оккупированной зоне, хотели переслать родным, находившимся в свободной зоне. Первое время просто, чтобы обменяться новостями. Затем, чтобы организовать возможность встречи. Эти письма были бы уже более компрометирующими в случае, если бы они попали в руки немцев.
Через несколько недель появились члены первых подпольных групп, еще не называвшихся Сопротивлением, искавшие возможности передачи информации. Жители деревни, зная, что я могу перебраться через реку, начали звонить у ворот Вье Ложи. Они даже не скрывались, т. к. в большинстве писем, которые я должна была передать, не было ничего политического.
Однажды днем, по-моему, это было осенью 1940 года, в ноябре, насколько я помню, к нам постучались три незнакомых мне человека.
— Вы Маити Гиртаннер?
— Да. А вы кто?
— Мы работаем в префектуре в Пуатье.
Я вздрогнула. Сообщение означало, что они работают на немцев, это подтверждало мое впечатление, крайне неприятное, потому что держались они высокомерно. В течение нескольких секунд в моей голове пронеслись все сценарии происходящих событий. Впрочем, ничего особенно компрометирующего я не сделала, но я представила себе, что в комендатуре узнали о том, что я передаю письма, и пришли потребовать отчета.
Они жестко велели мне отойти от входной двери и загнали в угол гостиной. Я очень старалась не дать им увидеть, как я волнуюсь. Тревога моя возросла, когда один из троих снова заговорил:
— Мы знаем, что вы регулярно переходите демаркационную линию.
Я постаралась выдержать его взгляд.
— Я — швейцарская гражданка. Следовательно, я свободна передвигаться, куда захочу. Вот мой паспорт и разрешение, подтверждающее мои права.