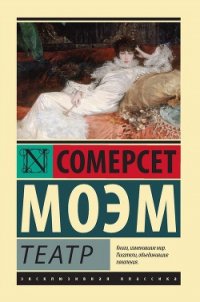Жизнь, театр, кино - Жаров Михаил (серия книг txt) 📗
- А ты сценарий читал?
- Читал!
- Значит, забыл: там ясно сказано: "Разъяренный Петр бьет..." Ты жалованье получаешь. Терпи!
- Гм! Терпи! Это хорошо сказать...
...Но разрешите тут сделать маленькое отступление. Бить в кино "нарочно" нельзя - надо ударить либо по-настоящему, если снимают крупно и одним куском, либо монтажно, то есть разбить сцену на несколько кусков: замах - кулак у лица -звук удара - человек падает.
 |
| 'Богдан Хмельницкий'. Сцену смерти Гаврилы я мог репетировать и сниматься в ней без конца, так она увлекала и волновала меня |
В картине "Секретарь райкома" есть такая сцена:
"Партизан, старик Русов, захвачен немцами. Его допрашивает генерал, играл его Михаил Астангов:
"Старик! Если ты скажешь, где находится секретарь райкома, то мы тебя отпустим, дадим денег и корову!"
"Это, значит, если скажу? А если не скажу?.."
"Тогда мы тебя повесим!"
Старик почесался, плюнул в кулак и, сказав:
"Вешайте, мать вашу так-то!" - ударил генерала".
Сцена несложная, но Астангов, так же как и я в "Петре", очень волновался и в чем-то очень горячо убеждал Пырьева (режиссером этой картины был упрямый, но очень темпераментный художник Иван Александрович Пырьев).
Перед самой съемкой, когда сцена была уже отрепетирована, Пырьев цодошел ко мне (я играл Русова) и, поправляя что-то в моем костюме, прошептал:
- Снимать я буду без дублей, один раз, так что ударь его как следует! Понял?
- Как ударить понял, но почему один раз будешь снимать, -не понял.
- Потому что ударить второй раз он тебе не позволит! Ясно?
- Ох, ясно!
Так оно и получилось.
Когда я Астангова ударил, чего он никак не ожидал, оказывается, Пырьев его заверил, что я ударю тихо, только для монтажа, - он зашатался и рухнул вниз со сцены на какие-то ящики.
Эффект получился, конечно, сильный, и во время демонстрации картины публика после удара всегда бурно аплодировала.
Действительно, в картине я бью с остервенением. Вид у генерала донельзя растерянный, испуганное лицо и вытаращенные глаза производили жуткое впечатление.
Но самое драматичное произошло потом: оскорбленный, что его обманули, да при этом еще и ранили, - падая он проколол гвоздем руку, - Астангов был так потрясен, что потерял даже дар речи.
Он встал, посмотрел на окровавленный палец и, обдав нас презрением, молча удалился со съемки...
...Вот так и я, возвращаясь к сцене с Петром, после предложения Петрова терпеть, категорически заявил:
- Нет! Нет! Раз Симонов усами шевелит, темперамент нагоняет, значит... убьет. Ей-богу, убьет!
- Что же ты предлагаешь?
- Снимать монтажно - из трех кусков: первый - Петр вбегает, хватает меня, трясет, бросает из кадра, во втором куске - от его броска я влетаю в кадр - ударяюсь о стенку, он меня опять трясет и опять бросает за кадр, в третьем куске - я лечу за полог кровати, Симонов подбегает, хватает меня за пологом и начинает бить, а там я подставляю ему подушечку и пусть он бьет сколько хочет.
Владимир Михайлович, прорепетировав, убедился, что монтажные куски дают сцене нужную стремительность -трепка получается значительней, - согласился со мной. Так и сняли!
Опять специфика кино
Но тут произошло непредвиденное: когда Симонов начал меня трепать, то шелковый галстук, который был завязан по шелковой же рубашке большим бантом, от трепки развязался и повис двумя колбасками. Съемка на этом первом куске закончилась, и все разошлись, но (вот в этом-то "но" и все дело) никто из помощников не заметил, что у меня во время съемки развязался галстук.
И вот к чему привело это невнимание.
Утром я надел рубашку, завязал, как полагается, бант и пошел сниматься во втором куске: от броска Симонова лечу в стенку. Сняли всю сцену, и я уехал в Москву.
А через два дня - телеграмма: "Приезжайте, пересъемка ваш счет".
Что такое? Какой счет? Приезжаю. Показывают смонтированный эпизод.
Меншиков кричит: "Катя! Квасу!".
Вбегает Петр - зубы блестят, усы торчат, лицо свирепое -хватает Меншикова, треплет его (галстук развязывается и повисает) и отшвыривает за кадр... Крупнее - Меншиков влетает в кадр, ударяется о стенку - блям! (и галстук оказывается опять завязанным)^
- Видал? - говорит директор картины.
- Видал! - отвечаю я. Надо переснимать?
- Надо.
- За твой счет! Не следишь за костюмом!
Директор был новый, назначенный из совершенно другого ведомства, ничего общего не имевшего с производством картин. После пересъемки он подошел ко мне и говорит:
- Не расстраивайтесь, это, признаться, я напугал вас нарочно.
- Не понимаю?
- Ну чего тут не понимать? Я вас расстроил, и вы вон как замечательно пересняли сцену с начальством - испуганно...
Очевидно, он решил со мной поделиться опытом, - в ведомстве, где он проработал очень долго, с начальством разговаривали по стойке: "Смирно!".
Во второй сцене я уже сниматься не мог, у меня было несмыкание связок, и надо было молчать. Но директор потребовал справку от врача, и меня повезли в поликлинику. Когда я проходил в костюме и гриме Меншикова по приемному покою, то слышал, как больные, толкая друг друга, говорили:
- Посла привезли!
- А что ж, послы не хворают что ли?
- Хворают, но почему без очереди...
Борис Корнилов
Этот день был полон неожиданностей.
В "Астории" остановилась проездом с Беломорского канала большая Группа наших московских писателей. Ко мне пришел Всеволод Вишневский, и только мы уселись пообедать, как начались звонки по телефону или просто стали заходить члены Союза писателей - вдруг всем понадобился Вишневский. В моем номере образовалась небольшая, но плотно набитая "забегаловка". Все чувствовали себя непринужденно, как дома, - приходили, заказывали, ели, пили, много говорили о канале, о людях, о Горьком и уходили. Все было очень мило.
Пришел Борис Корнилов, он очень часто заходил ко мне с фразой, которую произносил в нос и нараспев: "В светелке есть кто-нибудь?". Читал что-то новое, но что, убей бог, не помню! Знаю, что писатели хорошо и дружно хлопали его по плечам.
Он вошел в мою жизнь как-то случайно и неожиданно.
Позвонил телефон.
- Жаров?
- Да.
- Михаил?
- Да.
- Меншиков?
- Кто говорит?
- Говорит Корнилов.
- Поэт?
- Да.
- Борис?
- Ну, да, да! Хочу зайти к тебе!
- Заходи, буду рад!
Вот так, легко, без "брудершафтной" неловкости, мы с ним познакомились и стали говорить "ты".
Дальше было все просто. Когда он шумно на "войдите!" распахнул дверь и сказал: "А вот и я!" - слова полились у меня легко, плавно, сердечно:
- Борис, дорогой наш талантище! Низко кланяюсь и приветствую! Давно пора...
Как будто наши отношения определялись столетием.
Он долго хлопал меня, смотрел в глаза и, как будто ответив на какие-то свои, далекие мысли, медленно изрек:
- Такой же... Как на экране... Хорош... Здоров!
"Так на конном покупают лошадей", - подумал я.
Сам мелкорослый, он любил широту и могутность в жизни и в стихе.
Молодость - глупая и беспечная, как я теперь жалею, что не уберег, не сохранил порванные его черновики, не записал и не запомнил мимолетные импровизации, которые Борис слагал легко и красиво, так же красиво, как выпускал из моего окна в гостинице "Астория" бумажных голубей, заставляя их "планировать к Исаакию".