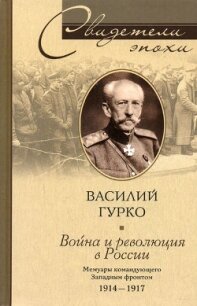Черты и силуэты прошлого - правительство и общественность в царствование Николая II глазами современ - Гурко Владимир Иосифович
Между тем мне казалось, что польза дела требует как раз обратного способа действия.
До какой степени в то неопределенное в смысле его исхода время Щегловитов был склонен на всевозможные уступки явно революционной общественности, свидетельствуют те законопроекты, которые он предполагал внести в Государственную думу. Один из них касался ответственности должностных лиц, а другой — совершенной отмены смертной казни, даже военными судами[577].
Первый из этих законопроектов был по существу, несомненно, правильный. Порядок, по коему должностные лица за преступления по должности не могли быть привлекаемы к ответственности без согласия на то определенных ведомственных коллегиальных учреждений, иначе говоря их начальства, не выдерживал критики, и Щегловитов был прав, когда во время обсуждения этого законопроекта, встретившего, разумеется, возражения со стороны некоторых членов Совета, наклонясь ко мне, сидевшему с ним рядом, шепнул: «Ну, если и эта реформа недопустима, то надо прямо установить порядки времен Чингисхана».
Столыпин, высказавшийся при голосовании за предположения Щегловитова, уклонился в этом случае от участия в прениях. В конечном результате был ли принят Советом законопроект Щегловитова, я не помню. Если мне память не изменяет, Щегловитову было предложено до его представления в законодательные учреждения внести в него некоторые изменения. Во всяком случае, порядок привлечения к ответственности должностных лиц за преступления по должности остался неизменным до самого конца старого строя.
Предположение Щегловитова об отмене смертной казни не встретило, насколько помнится, в среде Совета ни одного защитника[578]. Восстал против этого и Столыпин, ограничившийся, однако, простым, ничем не мотивированным заявлением, что он находит эту меру несвоевременной, и предоставивший подробно развивать причины такого его отношения переведенному им из Саратова на должность своего товарища прокурору Судебной палаты А.А.Макарову, которого я едва ли не впервые при этом и увидел.
Макаров был типичный судебный деятель из прокуратуры, у которого форма и буква брали неизменно верх над сущностью дела. Свое судебное дело он, однако, знал в совершенстве и, хотя его мотивы были преимущественно формального свойства, тем не менее он разбил предположения Щегловитова вдребезги. Возражали и некоторые другие члены Совета, выставляя преимущественно то веское соображение, что отмена смертной казни как раз в то время, когда революционеры возвели убийство должностных лиц и вообще правительственных агентов в широко применяемую систему, более чем странно. При голосовании сторонников предположения Щегловитова, насколько помнится, не оказалось.
Пытался и я убедить Совет министров в необходимости представления в Государственную думу отвергнутого по формальным причинам Государственным советом во времена министерства Витте проекта, направленного к освобождению крестьянства от обязательного пребывания при общинном порядке землевладения. Без всякого труда убедил я Столыпина внести в Совет министров отвергнутый Государственным советом законопроект по этому предмету, но против него решительно восстал Горемыкин, а Столыпин не произнес в его защиту ни единого слова, и предположение это господами министрами было преблагополучно провалено. Впрочем, Горемыкин был в данном случае, пожалуй, и прав, не по существу, разумеется, а в том отношении, что он шел вразрез с желанием кадетских лидеров, а посему надежд на его принятие Государственной думой не было никаких.
Если Совет министров топтался на месте и, в сущности, ни единого серьезного законодательного предположения не одобрил, Государственная дума, продолжавшая принятую ею политику, продолжала также вести деятельную атаку на правительство, причем сосредоточила свое внимание в первую очередь на аграрном вопросе. За подписью 33 членов Государственной думы были внесены главные основания предположенной ими земельной реформы. Правда, предположения эти отличались чрезвычайной краткостью и носили скорее декларативный характер. Расчет был простой — усилить народные волнения, в сущности ничем не рискуя, так как были уверены, что на это не согласится ни правительство, ни Государственный совет.
В самой Государственной думе нашлись, однако, отдельные лица, которые не хотели идти столь явно плутовским путем к власти. Против предположения 33 членов выступили с возражениями такие передовые общественные деятели, как Н.Н.Львов и кн. Волконский. Высказался, наконец, по этому поводу и Совет министров. На дневном заседании, на котором, не помню почему, я не присутствовал, решено было выступить с возражениями по существу. Остановились для выражения этих возражений с думской кафедры на А.С.Стишинском и на мне, причем, однако, в чем должны были состоять эти возражения, не решили. Стишинский прямо из заседания Совета приехал ко мне в министерство и передал мне решение министерской коллегии.
На мой вопрос, что же именно должно быть положено в основу возражений, а в особенности, какая же положительная программа правительства в области земельного вопроса, так как и по существу, и по техническим соображениям мне представляется невозможным ограничиться одним отрицанием и критикой предположений Государственной думы, мне Стишинский ответил, что об этом речи в Совете министров не было. «Извольте возражать завтра утром, а что вы скажете, дело ваше».
Такое положение, разумеется, развязывало мне руки. Тем не менее я не мог игнорировать, что лишь за несколько дней перед тем Совет министров, правда, почти без обсуждения, а на основании лишь краткого заявления председателя Совета Горемыкина, отклонил предположение министра внутренних дел о внесении законопроекта, предоставляющего каждому общиннику право свободного выхода из общины. После недолгого размышления и принимая во внимание, что упомянутый проект был внесен в Совет министров за подписью Столыпина и что, следовательно, его согласие на эту меру официально закреплено, я решил, что закончу свою речь в Государственной думе указанием на то, что единственным способом подъема крестьянского благосостояния является не упразднение частного землевладения, а, наоборот, вящее его закрепление посредством упразднения общинного землевладения.
Проработав почти всю ночь над составлением моей речи, я к 11 часам утра уже был в Таврическом дворце. Весть о выступлении членов правительства с возражениями по существу уже облетела членов Государственной думы, и собрались они почти в полном составе. В министерском кабинете (особый министерский павильон в то время не существовал — он был выстроен значительно позднее) я застал приехавшего еще ранее меня Столыпина, который немедленно, с заметным волнением, проступавшим через обычно присущее ему спокойствие и хладнокровие, обратился ко мне со словами: «Я вас прошу сегодня в Государственной думе не выступать». Слова эти меня так и огорошили. Досадно было, во-первых, на кой черт я целую ночь сидел за составлением речи, а во-вторых, я и по существу не без удовольствия предвкушал возможность публично помериться с теми дилетантами, которые выступали по этому вопросу в нижней палате. Действительно, земельный вопрос чрезвычайно сложен, и я заранее был уверен, что никаких дельных возражений на собранный мною фактический материал, доказывающий как дважды два четыре, что передача всех плодородных земель Европейской России крестьянству увеличить его благосостояние не может, так как увеличить площадь уже принадлежащих им земель сколько-нибудь значительно не в состоянии: для преобладающего большинства крестьянства увеличение это выразится в дробных частях одной десятины земли на душу населения.
— Почему? — естественно спросил я Столыпина.
— В качестве министра внутренних дел вопрос земельный и связанные с его окончательным разрешением те или иные предположения должны исходить от меня. Я не могу допустить, чтобы в этом коренном, важнейшем вопросе впервые выступил на кафедре Государственной думы кто-либо иной, а не я.