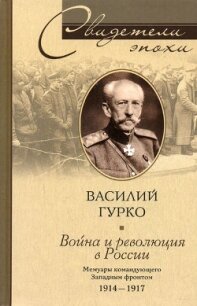Черты и силуэты прошлого - правительство и общественность в царствование Николая II глазами современ - Гурко Владимир Иосифович
— Это замечание вы, Петр Аркадьевич, должны обратить не ко мне, а к Совету министров, который мне поручил выступить сегодня, а потому без отмены этого решения Советом министров или хотя бы его председателем я исполнить вашего желания не могу.
— Но, однако, вы же не можете выступить против моего желания.
— Я уже высказал вам мою точку зрения и изменить ее не могу. Вот телефон (во время этого разговора мы оба нервно ходили по комнате, проходя мимо телефона, которым был снабжен министерский кабинет). Позвоните И.Л.Горемыкину, и если он после разговора с вами скажет мне, что мне выступать не надо, то я, разумеется, не выступлю.
Этот способ разрешения вопроса Столыпин почему-то признал для себя неудобным[579], и мы продолжали еще в течение довольно продолжительного времени шагать по ком — нате, причем Столыпин продолжал мне развивать причины, по которым он признает мое выступление неудобным, а я упорно твердил одно и то же: «Вот телефон, звоните к Горемыкину».
Убедившись наконец, что меня ему не убедить, он наконец сказал: «Во всяком случае, прошу вас касаться лишь фактической стороны и ни в какие общие рассуждения не входить», на что я, разумеется, никакого внимания не обратил. Моя речь, продолжавшаяся более часа, уже была составлена, и изменить ее я не мог, да и не хотел, но другое желание, им высказанное, а именно чтобы я сказал, что я говорю не от имени Министерства внутренних дел, а от себя лично, я вынужден был принять к исполнению, что в конечном результате тоже имело некоторые последствия.
Часов около двенадцати наконец открылось заседание Государственной думы. Председательствовал товарищ председателя Государственной думы кн. Петр Дмитриевич Долгоруков в качестве специалиста по крестьянскому вопросу, хотя познания его были довольно элементарные, а смотрел он на весь этот вопрос исключительно с интеллигентской точки зрения и экономические последствия предполагаемого отчуждения частновладельческих земель совершенно игнорировал. В противоположность, однако, преобладающему большинству кадетской партии он искренно был убежден в государственной полезности этой меры и поддерживал ее вопреки своим личным интересам, которые она, несомненно, нарушала. Началось, однако, заседание с какого-то другого значащегося в повестке предмета, и собственно к земельному вопросу приступили лишь в 4 часа дня. Лицам, которым приходилось выступать (да еще впервые) перед многолюдным собранием, конечно, будет понятно, если я скажу, что продолжительное ожидание выступления было не только томительно, но и усиливало то волнение, которое я не мог не испытывать, выступая перед всероссийским народным представительством, сколь бы я к составляющим его отдельным личностям ни относился отрицательно. Мое положение было тем более трудное, что, в сущности, это было первое выступление правительства с кафедры Государственной думы, и, таким образом, оно как бы превращалось в экзамен правительства перед общественностью.
Первым выступил Стишинский, причем говорил он около часа. Речь его, как всегда плавная и спокойная, была по существу не чем иным, как юридическим докладом, изобиловавшим многими справками — как это не преминула отметить пресса — в доказательство того, что ни существующие узаконения, ни решения Правительствующего сената не дозволяют производства дополнительного наделения крестьян землей.
После этого наступил и мой черед. Согласно желанию Столыпина, я начал свою речь со слов: «Позвольте мне выйти из рамок того ведомства, в котором я имею честь состоять, и в мере моего разумения и сил рассмотреть обсуждаемый вопрос в качестве лица, специально его изучившего». Закончил же я свою речь словами: «Не упразднением частного землевладения, не нарушением прав собственности на землю, а предоставлением крестьянам состоящих в их пользовании земель в полную собственность заслужит Государственная дума — собрание государственно мыслящих людей — великое спасибо русского народа».
Сказана была моя речь громко, решительно и авторитетно — словом, говорил я языком власти, но Государственная дума слушала ее со вниманием, о чем можно было судить по господствующей в зале полной тишине, и я могу по совести сказать, что она произвела большое, скажу не обинуясь, огромное впечатление, причем столь же большую роль сыграла в этом отношении самая манера произнесения речи, как и заключающиеся в ней фактические по земельному вопросу данные. Лидеры Государственной думы, и прежде всего лидеры кадетской партии, сразу поняли, что свергнуть правительство будет не так легко, как они это предполагали, что оно еще сумеет постоять за себя. Мнится мне, что они постигли тут же всю тщетность их усилий сначала развенчать, а затем и свергнуть власть и захватить ее в свои руки. Отсюда у них возгорелась уже прямая ненависть к личному составу правительственной коллегии, и они решили усилить свою атаку на него.
Впрочем, первым последствием моей речи, или, вернее, ее вступительной части, было, что следом за мною выступил на кафедру один из так называемых трудовиков (этим термином окрестили себя социалисты, пришедшие в Государственную думу) и обратился к председателю с просьбой не давать голоса «посторонним лицам». Долгоруков, очевидно, не понял, чем вызвано это заявление, ибо с изумлением в голосе ответил, что он посторонним лицам голоса не предоставлял. Засим вышел мне возражать кто-то из кадетской партии, если память мне не изменяет, Герценштейн, и хотя возражения его и были в высшей степени слабы, но так как основаны они были на умышленном извращении сказанного мною, то я тотчас же записался отвечать.
Я забыл упомянуть, что едва я начал свою речь, как Столыпин, остававшийся до того времени в Думе, встал и вышел.
С величайшим трепетом я ожидал момента, когда мне придется возражать. В голове у меня внезапно образовалась полная пустота, и, несмотря на все усилия, я решительно не представлял себе, что я скажу, не был в силах составить малейший план ответного возражения. Всем существом своим я сознавал, что тотчас с треском провалюсь, а впечатление первой речи пропадет без следа. Иначе смотрели на мое вторичное выступление лидеры Государственной думы. Они ожидали, что она окончательно их провалит в глазах многочисленных крестьян, входивших в состав Государственной думы, так как вполне сознавали слабость высказанных их глашатаем возражений на сообщенные мною фактические данные. Поспешили они ввиду этого внести за соответствующим количеством подписей предложение о закрытии заседания, хотя час был сравнительно ранний и далеко не достиг обычного времени закрытия думских заседаний. Предложение это, к моему безграничному удовольствию, было принято. Судьба, усилиями моих противников, меня спасла от провала.
Ближайшие дни Государственная дума посвятила другим вопросам и лишь по прошествии трех дней на четвертый вернулась к вопросу земельному.
Если речь моя произвела впечатление на Государственную думу или, вернее, именно так как речь эта произвела впечатление на собрание народных представителей, Столыпин самым фактом ее произнесения был в высшей степени недоволен или, вернее, почел себя оскорбленным. Прямо из заседания Государственной думы поехал он к Горемыкину и заявил ему, что выходит в отставку, так как не может допустить, чтобы глашатаем по вопросам, касающимся его ведомства, являлся бы не он, министр, а его товарищ. Принял он это так болезненно остро, как мне на другой день объяснил Горемыкин, вследствие того, что Совет министров поручил мне выступить по земельному вопросу, невзирая на то, что он тогда же возражал против этого. Я, впрочем, должен сказать, что некоторое основание он имел, чтобы отнестись именно так к этому, по существу, ничтожному обстоятельству. Во-первых, потому, что наряду со мною выступал главноуправляющий землеустройством, т. е. глава ведомства, а не второстепенный его представитель, во-вторых, потому, что сам он ни разу не выступал с кафедры Государственной думы, и, наконец, ввиду того, что земельный вопрос был главным боевым вопросом данного времени.