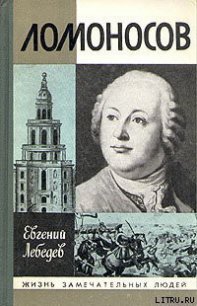Реквием (СИ) - Единак Евгений Николаевич (читать книги онлайн без сокращений .txt) 📗
— Эта работа временная. Всегда помни, что тебе нужно будет вернуться к работе лекаря среди людей, которыми сейчас руководишь.
Я молчал. А мама добавила:
— Тiлько нiколи не талуй по головам людей! (Только никогда не топчи по головам людей! — укр.).
Впрочем, спустя два года, после трех заявлений, меня освободили по собственному желанию. Я вернулся к лечебной работе. Не исключаю, что больше всего моим поступком сознательно и подсознательно руководило, когда-то сказанное отцом, слово «Боюсь». При написании этих строк поймал себя на мысли, что я, как и отец, принял окончательное решение не идти в начальники в тридцать лет.
Особист
Моя жизнь — безжалостная, как зверь
Однажды отец пришел из правления после наряда озабоченным:
— Сегодня на заседании правления утвердили оплату зерном на трудодни за прошедший год. Урожай невысокий, а план по хлебозаготовкам снова увеличили. На трудодень выйдет не более трехсот граммов.
— Мало. На год не хватит, надо покупать пшеницу или муку. — сказала, возившаяся у плиты, мама
— Ганю, сколько муки у нас идет на одну выпечку? Приблизительно. Сколько нам надо будет муки на год? Плюс вареники, пироги…
— Чтобы хватило с запасом, надо иметь на семью полтонны муки. А то будет, как в сорок седьмом.
— А корове после отела? Поросята?
Подумав, отец в задумчивости добавил:
— Земли нет. Вся в колхозе. Был бы хоть гектар, были бы с хлебом. Сейчас уже не так строго. Можно было бы взять землю в аренду, как тогда.
Слово «тогда», я уже знал, у моих родителей означает сорок седьмой год. Тогда мне исполнился один год. Из разговоров родителей с приходящими вечером послушать радио соседями и теткой Марией я уже знал, что в Бессарабии тогда была жестокая голодовка. Уполномоченные ходили по дворам, осматривали сараи, пристройки и чердаки. Зерно грузили на телеги.
Мама в тот день возилась в огороде. Въезжающая в село вереница подвод сказала ей о многом. Прибежав во двор, мама успела затянуть волоком в свиную конуру немного кукурузы и жита. Мешки забросала соломой, объедками кукурузы и сухим навозом. Отца тогда дома не было. Призванный Тырновским военкоматом, отец, в числе сотен отвоевавших фронтовиков-крестьян, строил дорогу Единцы — Лопатник.
Крестьяне варили лебеду, расшивали соломенные крыши и снова молотили, добывая пригоршни жита. Ездили в Черновицы за жомом. Мама рассказывала, что люди с юга и из-за Днестра нескончаемой вереницей тянулись вдоль села, прося милостыню. Бывало, заметив бредущего нищего, люди прятались, закрывались в домах, уходили в огороды.
В тот год в Елизаветовке организовали колхоз. Всю землю обобществили. Со двора крестьянина, чаще всего не спрашивая и прикрываясь постановлениями, решениями и разнарядками, увозили на хозяйственный двор плуги, бороны, соломорезки, телеги… Мельницу Ивана Калуцкого, построенную хозяином на повороте «Коцюбы» (извилистой части сельской улицы) и маслобойку Лази Климова оставили на прежних местах. Сами здания мельницы и маслобойки «соответствующими распоряжениями» переходили в собственность колхоза.
Люди не знали, что означают постановления, распоряжения и другие замысловатые слова. Но жизненный опыт, полученный, как говорили «под румынами», потом с приходом русских, в период депортации в сороковом, в течение четырех лет войны и возвращением русских научили людей бояться этих слов при любой власти. Крестьяне усвоили одно: невыполнение любого решения властей, как бы оно не называлось, несет с собой крупные неприятности.
Но после войны больше всего боялись особистов. Особистами сельчане называли любого вооруженного человека: ястребков, работников военкомата, уполномоченных инструкторов, участкового. Особистом называли и Яшу, назначившего себя в селе на мудреную должность: «инструктор с правом ношения оружия».
Яша, рассказывали старшие, жил у кого-то в самой нижней части села, называемом Бричево. Ходил по селу с, закинутой за плечо, винтовкой с примкнутым длинным штыком. Сельчане спешили налить ему чарку в надежде, что выпив, Яша станет добрее и скорее покинет дом. Но выпив, Яша становился разговорчивым. Он подолгу плёл банделюхи (рассказывал небылицы) о своих боевых подвигах, вытаскивал из карманов шинели и демонстрировал разнокалиберные патроны от различного оружия, щелкал затвором, показывая в стволе, готовый выстрелить, патрон.
Яша предпочитал навещать солдаток, получивших похоронки. Долго читал куцые листки серовато-желтого цвета.
— Тут что-то не то…
Несчастная женщина напрягалась. В потухших было глазах загорался слабый огонек надежды.
— Тут надо посодействовать…
После этих магических слов на столе появлялся налитый доверху килишок (низкая пузатая граненная рюмка). Выпив самогон, Яша ещё раз осматривал с обеих сторон похоронку, потом смотрел на свет.
— Посодействую. Надо проверить. — Яша ложил похоронку на стол.
— Не забудете? Фамилию запишите. — женщина пыталась устранить все препятствия на пути к «содействию».
— Я никогда ничего не забываю.
Яша был не только всепомнящим. Яша был ясновидцем. Сам процесс ясновидения он облекал в весьма оригинальную форму. Для гадания требовал стакан, соль, яйцо и дважды перегнанный самогон. На дно стакана насыпал щепотку соли. Аккуратно, чтобы не повредить желток, на соль выливал разбитое яйцо. Сверху осторожно наливал самогон. Стакан грел в руках, слегка покачивая и внимательно рассматривал, как постепенно уменьшаются в размере и исчезают в растворе едва видимые кристаллики соли.
На границе самогона и яичного белка появлялась и сгущалась муть. Вдова, затаив дыхание, смотрела на Яшу, как на бога. Она видела густеющую муть, на которой должна была проявиться, видимая только Яше, судьба её не вернувшегося мужа. Наконец, широко и истово перекрестившись на образа, Яша выпивал ворожейную смесь до дна. Облизываясь, причмокивал губами. Потом снова смотрел на дно стакана. Ставил пустой стакан на стол. Поднимался и, закинув винтовку за плечо, провозглашал:
— Всэ буде добре!
Развернувшись, неуверенным строевым шагом покидал хату.
Что «буде добре» не поняла и моя тетка Мария, ворожившая однажды у Яши на сыновей. Рассказала она о сеансе ясновидения у нас дома через добрый десяток лет. Отец, лежавший днем, как обычно, одетым на кровати, комментировал, рассказанное теткой:
— Марию! Та ти ж не дурна!
Мама, отвернувшись к печке, молчала. Только плечи её мелко и долго сотрясались в безгласном смехе.
Отца, по решению правления организованного колхоза назначили конюхом. Поскольку конюшня одной из трех колхозных бригад находилась по соседству в стодоле сводного брата Франека Кордибановского, отца такая работа устраивала. Выпустив лошадей на работы, отец убирал в конюшне, выносил навоз, подсыпал в ясли овёс либо сечку, менял подстилку.
— Конюшня была через дорогу от нашего дома, — рассказывал отец, — у Франека. Я успевал сделать все по конюшне, прибегал домой. Успевал по двору, работал в огороде. К двенадцати снова надо было быть в конюшне, хотя все лошади с повозками были в поле. В двенадцать завхоз, по дороге на обед, проверял состояние конюшни.
Завхозом, с самого первого дня организации колхоза, назначили одного из многочисленных двоюродных братьев отца. В сороковом, как только «пришли русские», родственник уехал на шахты. Там его застала война. Когда фронт с отступающими советскими войсками приблизился к Донбассу, эвакуировался в Ташкент. Там определился конюхом в запасном кавалерийском полку. За рвение в работе скоро назначили старшим конюхом, затем начальником конюшни. Дали бронь. В сорок третьем вступил в партию.
Домой вернулся в июле сорок пятого, когда миновала опасность быть призванным на фронт. Оказался в числе коммунистов с самым большим партийным стажем в селе. Даже дома говорил только на русском языке. Рвался в председатели. Но, приехав в село, первый секретарь Тырновского райкома Владимир Федорович Берекет, побеседовав со всеми кандидатами на руководящие должности колхоза, сказал Жилюку: