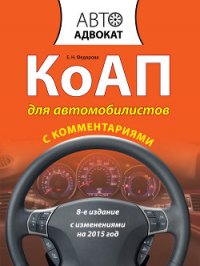На островах ГУЛАГа. Воспоминания заключенной - Федорова Евгения (книги онлайн без регистрации полностью .txt) 📗
И тут вдруг обнаружились его необыкновенные и замечательные способности, благодаря которым он стал неплохо «подрабатывать» и вскоре пошел на поправку. Оказалось, что он обладает феноменальной памятью, вроде И. И. Соллертинского, о котором после войны так великолепно рассказывал Ираклий Андроников. Он также помнил номера страниц, абзацы, названия глав и переносы слов на страницах!
Недавно в блокадном Ленинграде он читал своим не по годам развитым ребятам Жюля Верна, Майна Рида, Александра Дюма.
Теперь он рассказывал это так, как если бы в руках держал книгу! Днем он рассказывал в бараке урок, по вечерам – у нас. Рассказывал или, вернее, «читал» невидимую книгу выразительно, с увлечением, и слушать его было огромным удовольствием. Ведь у нас вообще не было книг на нашей бедной, захудалой «командировке».
Работяги отламывали ему куски хлеба от своих 800-граммовых паек, наливали в котелок баланды.
Столовой как таковой у нас не было. Баланду и кашу, почти такую же жидкую, как и баланда, выдавали на кухне на бригады в больших кастрюлях. Их бригадиры тащили в барак и тут разливали баланду в миски своим бригадникам.
Первое время профессор ел страшно много, как и я на Пудожстрое. Он вновь и вновь подставлял свой котелок – ведь бригад было несколько и баланды всегда хватало; было жутко смотреть, как он их опустошает, без передышки, один за другим, но потом он «уелся» и больше двух-трех котелков не съедал. И как ни малопитательна была баланда, а каша ему доставалась редко, все же он начал поправляться и к весне был в состоянии выйти за зону с багром в руках и дотащиться до берега нашей речушки, по которой начинался молевой сплав леса.
Как сейчас вижу его большую тяжелую фигуру в какомто необъятных размеров драповом (или плюшевом?) балахоне, в котором он и приехал из Ленинграда, в лагерных «шанхаях», а на голове маленькая засаленная тюбетеечка, с которой он никогда не расставался. Живые черные глаза на круглом лице и окладистая, тоже черная, как смоль, борода, успевшая отрасти за время ленинградских и пересыльных тюрем.
…Приятная была эта работенка – лесосплав. В хорошую погоду провести весь день у реки было одно удовольствие, и хлеба давали 400 граммов! На берегу можно было сидеть, время от времени подталкивая багром уткнувшееся комлем в берег норовистое бревно. Ну а если случались заторы и бревна лезли и громоздились друг на друга, возводя огромные плотины, тут уж нужны были настоящие работяги – бригады лесосплавщиков. В них к весне переформировывались наши лесоповалыные бригады.
Тут-то, на берегу реки, профессор и рассказывал мне про своих Наташу с Андрюшей, блокадный Ленинград и про будущую конечную победу западной цивилизации.
Правда, был у нас и один человек, который был уверен в победе Германии. Это был старый лагерный художник.
Ни один лагпункт, даже самый «захудалый», не обходится без художника, который «оформляет» проценты выработки плана, борется с «саботажем» и т. п., рисуя соответственные плакаты и карикатуры, а заодно рисует коврики с лебедями для начальства, а то и портреты, если может.
Художнику на лагпункте живется лучше всех. У него почти всегда имеется отдельная кабинка, «придурковский» паек и масса свободного времени. Жил неплохо и этот, но был стар. Он подбадривал наших доходяг: «Потерпите еще немного! Последние четверть часа всегда самые трудные!»
Но сам он не недотерпел этой последней «четверти часа» – внезапно захирел, ослаб и умер.
Эти последние «четверть часа» для всех нас затянулись на слишком долгие годы, и для тех, кто дожил до смерти Сталина, обернулись через 15 лет совершенно неожиданной реабилитацией, а не победой Германии или «цивилизованного Запада».
…На копку картошки с нами ходила Дина Исааковна – не помню ни ее фамилию, ни откуда она у нас появилась и что раньше делала здесь, на лагпункте. Помню ее только с той поры, когда нас стали гонять на картошку – она была уже совсем доходягой. Ноги у нее опухли, и ходила она с трудом. А пройти надо было километра четыре по грязной, расквашенной осенними дождями дороге.
Особенно тяжел ей был путь обратный. Если ее ставили во главе колонны, на нее шипели лагерники – каждый стремился скорей в зону, к своей порции баланды, к своей пайке и спасительным нарам, на которых можно вытянуться и погрузиться в сон. Сон, не освежающий тело, но туманящий мозги.
Она задерживала всю колонну, и ругательства пополам с проклятиями сыпались на нее со всех сторон.
Если ее ставили в конце колонны, она безнадежно отставала и тогда стрелки тыкали ее в спину прикладами, понукая прибавить шаг. Нет, не били – именно «тыкали», слегка подталкивая и ругая. Вблизи лагеря ее уже оставляли на дороге одну, и, пока всех пересчитывали, обычно не один раз, так как с одного раза «не сходилось», она успевала добрести до ворот.
Наконец она упала, не дойдя шагов 200 до ворот, и тогда только ее забрали в лазарет.
Умерла она недели через две.
Так вот какие странные, по тому времени, речи услыхала я от нее там, на борозде картофельного поля, в те короткие минуты, когда нам давали передохнуть и посидеть.
Это был тихий лепет, как шелест листвы в ветвях: «Это все ОН! Сталин… От него все исходит… У него мания преследования и чудовищная гигантомания… Перед НИМ трепещет все живое… Для него нет ни семьи, ни друга, ничего – только власть и власть… Он уничтожает всех соперников – настоящих и выдуманных… Головы летят направо и налево. И еще тише, одними губами: «Это Он убил Кирова…» А мы что?.. Мы – щепки… А сколько исполинов, светлых умов полегло… Но все откроется! В истории так не бывает. Истину скрыть невозможно. Теперь уже недолго… Больше четверти века его режим не продержится… Конец скоро… Я не доживу, но мой сын, ему только 14, – он узнает!.. Обязательно узнает…»
Тогда ее слова мне казались бредом уже стоящего одной ногой в могиле человека. Я знала, что она была членом партии, возможно, вращалась в каких-то «высоких кругах», но все равно речи ее воспринимались как странный бред.
ОН – которому адресовано столько заявлений и жалоб в надежде, что хоть какие-нибудь пробьются и откроют ЕМУ глаза… ОН – наша последняя надежда… ОН – от которого все ждали слов справедливости, крутого поворота истории…
Бред, бред…
А было это не бредом, а истиной – пророчеством на картофельном поле, политом женским потом и слезами… Даже срок предсказала Дина Исааковна почти точно.
В этом глухом таежном лагпункте не было ни радио, ни газет, ни кино. Все новости шли в основном от лагерного начальства, с опозданием, но все же получавшего газеты, а потом узнавались друг от друга с добавочным сдвигом во времени и с искажениями, вносимыми передающими, в зависимости от их интерпретации, причем зачастую желаемое выдавалось за действительное. Поэтому казалось, что мы живем в каком-то сюрреалистическом, затерянном во времени мире, оторванные от реальной жизни. Мы почти не знали, что происходит сейчас в стране, на фронтах, где сейчас немцы, где наши.
Когда зимой 41-го немцы подступали к Москве, какие только слухи не ходили по лагерю! И что Москва уже сдана, и что Гитлер предъявил Сталину ультиматум – отпустить всех политзаключенных, и что советской власти скоро конец и т. д.
Но когда стало известно, что немцев остановили и отогнали от Москвы, в лагере было всеобщее ликование.
…Лето всегда приносит утешение и радости, даже в таком несчастном лагпункте, каким был наш «42-й».
Весна принесла лесосплав с веселыми молевыми бревнышками, танцующими в воде. Лето – сенокос, не знаю для какого скота; не помню, чтобы в лагере водились коровы, но лошади в ВОХРе были, наверное, а может быть, у начальства были и коровы, во всяком случае, был сенокос. Умельцы косили, а мы ворошили сено и сгребали в стога – совсем как в деревне!
Вскоре стала поспевать малина, а там и черника с голубикой, и нас вместе с доходягами, которые только мешали на лесоповале, стали посылать по ягоды. Что и говорить – легкая и веселая работенка! Правда, и тут сейчас же ввели «нормы» в виде банок и корзинок. Пусть себе, думали мы, ведь тут уж было не страшно недобрать до нормы – все равно в лагерь возвращались, плотно набив животы ягодами!