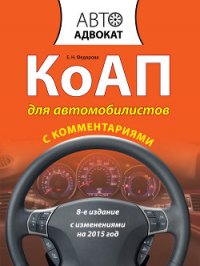На островах ГУЛАГа. Воспоминания заключенной - Федорова Евгения (книги онлайн без регистрации полностью .txt) 📗
В лес ходили без конвоя – бежать было некуда: кругом на сотни верст тайга, а дорога на Соликамск бдительно охранялась. К вечеру стрелки выезжали на дровнях за «западниками», утром ушедшими на работу, и привозили в лагерь трупы «саботажников». На поверке начальник лагеря всенародно предавал их анафеме – «фашистов», готовых лучше сдохнуть, чем честной работой искупить свои преступления.
Это было уже после моего отбытия с «42-й командировки», и узнала я об этом от знакомых лагерников, которых я встретила в Соликамске примерно через год после моего освобождения.
А пока я старалась как-то приспособиться к лесоповальным работам, чтобы хотя бы выжить.
Скоро я убедилась, что на самом деле работа «подсобников» на лесоповале – самая тяжелая и неблагодарная. Ни одна пара подсобников без помощи бригады не управлялась, даже если они не присаживались к костру ни разу за весь день. И все бригады ругали своих подсобников.
В конце концов я перепробовала все лесоповальные «специальности». Обрубать ветви было не слишком тяжело, если они были не очень толстые и если топоры были острые. Но это бывало далеко не всегда, и я опять не успевала за бригадой, и опять меня ругали на все лады. Потом я попробовала раскряжевывать – то есть распиливать стволы на нужные отрезки. Сначала как будто все пошло на лад, но на второй же день я сломала лучковую пилу, едва выпросила у десятника заменить ее мне другой и к концу дня сломала и ту.
Если дерево ложилось, провисая между двух бугров, – пила неизменно зажималась и очень легко ломалась. Правда, потом мне показали, как надо подставлять колья под ствол, чтобы не ломать пилы. Но пока приходила сноровка, дела шли плохо, и постоянно кому-нибудь из настоящих работяг приходилось мне помогать – ну а кому это понравится, судите сами! Ведь и так они вкалывали вовсю, чтобы выработать свои несчастные 30–40 кубометров. Счастье еще, что сосна шла «корабельная» – высоченные, прямые стволы – кубометра полтора, а то и все два древесины!
Какие пышные зеленые кроны были у них! Сердце сжималось, когда раскачиваемое упертыми в ствол баграми дерево начинало трещать все громче и громче, как бы моля о пощаде, и наконец с последним скрежетом и глухим уханьем медленно валилось в снег, вздымая белый вихрь.
…Маленькая, я всегда была уверена, что дереву тоже больно, плакала над елкой, принесенной в квартиру. Теперь мне тоже казалось, что им больно. А может быть, это так и на самом деле?.. Кто может знать…
Когда я присмотрелась к лесоповальным операциям, я увидела, что больше всех отдыхают сами «повальщики» – те, которые спиливают деревья, кого особо почитали как «ведущих» в лесоповальном деле.
Они, вдвоем, неспеша подрубят дерева два-три, потом начинают их подпиливать плоской пилой за две ручки. Подпилив достаточно, зовут других, чтобы баграми расшатать и повалить дерево. Пока поваленные деревья разделывают – обрубают сучья, раскряжевывают – повальщики переходят на другой конец делянки и там снова подрубают и подпиливают дерева два-три. И еще пройдутся к костру, посидят и покурят, пока раздельщики все еще возятся с первыми деревьями. И так весь день – с прохладцей, не спеша.
Я едва вымолила себе разрешение попробовать валить – на мое счастье захворала одна из напарниц-повальщиц.
И я не ошиблась. Действительно, это самая уважаемая, «престижная» работа лесоповальщика оказалась наименее трудоемкой, наиболее подходящей для слабых моих сил. Правда, в начале, когда подпиливаемое дерево начинало постанывать и покряхтывать, у меня душа уходила в пятки, и я умоляла напарницу: «Довольно, довольно!..» Но более опытная моя напарница понимала, что еще мало и так дерева не свалить.
Я видела однажды, как неопытные повальщики спилили ствол чуть не до самого заруба и дерево вдруг стоймя соскочило со своего пня и комлем расплющило стопу одного из повальщиков. Он побелел как мел и даже не закричал – так сильна была боль. А дерево, покачавшись, как маятник, под страшные крики «Берегись!.. Берегись!» легло поперек делянки.
Но у нас пока – тьфу, тьфу, не сглазить бы – все шло благополучно, и бригада была поражена: никчемная, ничего не умеющая делать интеллигенция оказалась «на высоте» и валила столько же, сколько и они – опытные настоящие работяги!
Так я и проработала «повальщицей» почти до конца зимы 43-го года, когда, казалось бы, пустяковый случай определил новый поворот в моей лагерной судьбе.
Но прежде чем продолжать рассказ о моих новых приключениях, хочу поделиться воспоминаниями еще об одной обитательнице этого лагеря, с которой у меня сложились хорошие, теплые отношения.
Речь идет о моей соседке по нарам, молоденькой монашке Марусе. Вспоминаю, как трогательно она ухаживала за мной во время «куриной слепоты», приносила мне мою миску с баландой и пайку хлеба, водила в баню, стирала белье. Более кроткого и незлобивого существа я не встречала – маленькая, как серенькая мышка, всегда тихая, всегда приветливая, говорившая вполголоса. Когда в бараке вспыхивали ссоры, она готова была заплакать, затыкала уши ладонями, чтобы, не дай бог, не услышать слова «черт», которого она боялась больше всего на свете. Она считала, что достаточно помянуть ЕГО, как он уже тащит твою душу прямо в пекло, на вечные муки.
Кроме нее в бараке было еще несколько монахинь-богомолок, которые на следствии не называли своих фамилий и по формулярам числились просто под номерами.
Лагеря они считали земными отделениями преисподней, созданием сатаны и потому полагали за грех работать здесь, на сатану. В изолятор их не сажали, но жили они всегда на штрафном пайке – на 200 граммах хлеба. И все же они особенно не голодали.
Они охотно брались за всякую работу для людей – только бы не для сатаны. Дневальной они мыли полы и приносили воду, работягам и «придуркам» стирали и гладили; мужчинам чинили брюки и бушлаты. Они никогда не спрашивали платы за свои услуги, но если им давали кусок хлеба или миску баланды, никогда не отказывались, смиренно благодарили и, перекрестясь, принимали подаяние.
Статья у них у всех была «пустяковая» – 58–10, но сроки почему-то у всех были – десять.
Я вспомнила о Марусе, потому что она была единственным человеком на «42-й командировке», которому действительно было жаль расставаться со мной. Впрочем, и мне тоже.
…Конец моему пребыванию на «42-й» пришел, как я уже сказала, неожиданно и случайно. Чем-то я наколола большой палец правой руки, даже не заметила чем и как, но палец разболелся, раздуло всю руку. Боль была отчаянная. Хирурга у нас на лагпункте не было; наш лекпом попробовал покопаться в пальце скальпелем – стало еще хуже, температура поднялась до 40… Лекпом испугался сепсиса и, во избежание ответственности, выписал направление в центральную больницу Усольлага, до которой было километров 25. Транспорта, конечно, никакого не было. Кроме того, для моей отправки в больницу требовались еще два условия: наряд из управления и конвоир.
Сначала не было ни того, ни другого. Потом пришел наряд, но не было конвоира. А время шло да шло…
Я не умерла от сепсиса – опухоль стала спадать, и боль немного отпустила. Температура тоже спала.
В общем, панариций стал понемножку проходить (окончательно палец зажил только через год и остался на всю жизнь исковерканным), уже было ясно, что можно отлично обойтись и без центральной больницы.
Но дело было сделано – наряд лежал в конторе, а недели через три появился и стрелок, чтобы везти меня в Мошево, где находилась больница.
Кроме меня туда же, в центральную больницу, должен был быть отправлен, тоже по наряду, врач К. – опытный терапевт, обрусевший поляк, которого почему-то с пересылки из Соликамска тоже заслали к нам, на «42-ю». И хотя и наш лекпом, и врач К., и я сама – все мы сомневались, нужно ли мне идти в больницу, примут ли меня там с почти зажившим панарицием, сомнения наши оказались ни к чему. Имелся наряд, налицо был конвой – значит, рассуждать нечего. Мне было велено отправляться.
Мы с доктором К. сложили свои нехитрые пожитки, а у меня уже завелся какой-то деревянный чемоданчик к тому времени, и отправились в путь-дорогу. Стрелок – совсем еще мальчишка – оказался сообразительным и добросердечным. Он раздобыл где-то саночки, положил на них наши чемоданы, и сам тащил их всю дорогу по мокрому, весеннему снегу – у меня рука была все-таки еще на перевязи, а доктор годился стрелку, скорее всего, в дедушки, и, очевидно, стрелок это тоже учел.