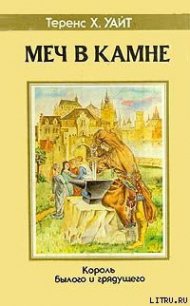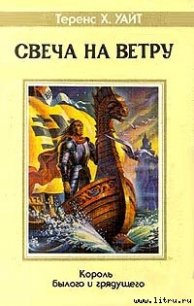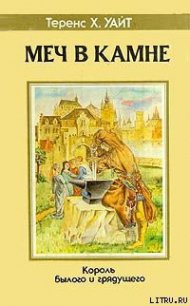Рыцарь, совершивший проступок - Уайт Теренс Хэнбери (читать книги без сокращений txt) 📗
13
Гвиневера сидела в полутемном покое, занимаясь шитьем, которое было ей ненавистно. Она вышивала чехол на Артуров щит — с драконом стоящим, червленым. Чувства такого ребенка, как восемнадцатилетняя Элейна, легко объяснимы, Гвиневере же исполнилось двадцать два года. И на чувства королевы-ребенка, получившей когда-то в подарок пленников, лег уже отпечаток созревающей личности.
Существует нечто, именуемое знанием жизни, — нечто, недоступное человеку, не достигшему зрелых лет. Его невозможно передать человеку помоложе, поскольку оно лишено логики и не подчиняется установившимся законам. В нем отсутствуют правила. И только за долгие годы, приводящие женщину к середине ее жизни, развивается это ощущение равновесия. Ведь нельзя обучить младенца ходить, объяснив ему все логически, — ему приходится на собственном опыте овладевать странной наукой устойчивого хождения. Что-то похожее присуще и знанию жизни — передать его юной женщине не удается. Остается лишь предоставить ей долгие годы накапливать опыт. И в конце концов, как раз в ту пору, когда она начинает ненавидеть свое израсходованное тело, она обнаруживает, что, оказывается, может жить дальше. Теперь она может длить существование, опираясь не на принципы, не на логические построения, не на понимание хорошего и дурного, но лишь на особое и изменчивое ощущение равновесия, зачастую отрицающее все перечисленное выше. Надежд на то, чтобы жить поисками истины — если женщины вообще питают такие надежды, — у нее уже не остается, но с этой поры она продолжает жить, руководствуясь седьмым чувством. Чувство устойчивости, приобретенное, когда она училась ходить, было шестым, отныне же она обладает седьмым чувством — знанием жизни.
Медленное обретение седьмого чувства, с помощью которого и мужчины и женщины умудряются проплывать бурными водами этого мира, полного войн, прелюбодеяний, страхов, компромиссов, злоречия и ханжества, — обретение это не сопровождается ощущением торжества. Ребенок еще может, торжествуя, воскликнуть: я научился ходить и не падать! Седьмое же чувство осознается нами без восклицаний. Мы просто продолжаем плыть по сомнительным водам, вооружившись нашим прославленным знанием жизни, потому что попали в тупик и ничего иного придумать не можем.
И достигнув этой ступени, мы начинаем забывать, что было некогда время, когда мы седьмым чувством не обладали. Мы начинаем забывать, продолжая уравновешенное движение, что было, вроде бы, время, когда наши молодые тела пылали жаждою жизни. Вспоминать о подобных чувствах — невеликое утешение, а потому память о них отмирает в нашей душе.
Но ведь и правда, было же время, когда каждый из нас нагим стоял перед миром, почитая жизнь серьезной проблемой, к которой он относился вдохновенно и страстно. Было время, когда нам казалось жизненно важным выяснить, существует Бог или нет. Ясно же, что Его бытие или, иными словами, возможность будущей жизни имеет первостепенную важность для тех, кому предстоит прожить жизнь земную, ибо от этого зависит, как ее жить. Было время, когда спор между Свободной Любовью и Католической Моралью имел для наших жарких тел не меньшее значение, чем приставленный к виску пистолет.
А если заглянуть еще дальше, то были и времена, когда мы, напрягая души, пытались понять, что такое мир, любовь, что такое мы сами.
С обретеньем седьмого чувства все эти проблемы и порывы сходят на нет. Зрелые люди без особых трудов умудряются балансировать между верой в Бога и нарушением всех десяти Его заповедей. В сущности говоря, седьмое чувство медленно убивает все остальные, так что в конце концов и о заповедях беспокоиться не приходится. Мы их больше не видим, не слышим, не осязаем. Тела, которые мы любили, истины, которые мы искали, Бог, в котором мы сомневались — отныне мы к ним глухи и слепы; уверенно и уравновешенно мы шагаем вперед, к неотвратимой могиле, надежно защищенные последним из наших чувств. «Восхвалим Господа за старость», поет поэт:
Восхвалим Господа за старость,
За возраст, немощь, тишь погоста.
Когда ты стар, разбит и видишь край могилы,
Быть добродетельным так просто.
Гвиневере, сидевшей за вышиванием и думавшей о Ланселоте, было двадцать два года. Она не прошла и половины пути к могиле, не была даже немощна и чувств имела всего только шесть. Вообразить ее трудновато.
Хаос души и тела; возраст, в котором плачут при виде заката или блеска полной луны; обилие путаных надежд и верований — в Бога, в Истину, в Любовь, в Вечность; умение увлекаться красотою вещей; сердце, способное страдать и переполняться; радость, столь радостная, и печаль, столь печальная, что между ними могли бы разместиться целые океаны; и чтобы уравновесить эти прекрасные качества — непристойно выставляемое напоказ себялюбие; неугомонность, неспособность утихомириться и перестать, наконец, докучать зрелым людям; дерзкие препирательства по поводу отвлеченных понятий, скажем, по поводу Красоты, как будто они представляют для зрелых людей какой-нибудь интерес; совершенное отсутствие опыта по части замалчивания правды, человеку зрелому неприятной; общая возбудимость, надоедливость и несоответствие принятым формам проявления седьмого чувства — такими могли быть некоторые характерные черты, присущие Гвиневере в двадцать два года, ибо черты эти присущи всем. Но венчалось все это расплывчатыми, еще не определившимися чертами, присущими ей одной и отличавшими ее от невинной Элейны, чертами, быть может, менее трогательными, но более связанными с реальным миром, властными чертами, превращавшими ее в ту особую Дженни, которую любил Ланселот.
— О, Ланселот, — напевала она, вышивая навершье щита. — О, Ланс, воротись поскорей. Воротись ко мне, с твоей искривленной улыбкой, с твоей особой походкой, которая выдает, сердит ты или озадачен, — воротись и скажи мне, что вовсе не важно, греховна любовь или нет. Воротись и скажи: довольно того, что ты — Дженни, я — Ланс, что бы там с кем ни случилось.
И самое поразительное, что Ланселот воротился. Он прилетел прямиком от Элейны, прямиком от содеянного ею воровства, прилетел, словно стрела, пронзающая влюбленное сердце. Обманутый, он уже спал с Гвиневерой, уже лишился обманом своей десятикратной мощи. В глазах Господа, как Его представлял себе Ланселот, он уже стал лжецом и потому полагал, что новая ложь ничего не изменит. Утративший звание лучшего рыцаря мира, не способный больше творить чудеса без помощи магии, лишенный возможности чем-нибудь возместить уродство и пустоту своей души, молодой человек устремился за утешением к любимой. Железные подковы коня пролязгали по булыжнику мостовой, заставив Королеву бросить шитье и пойти посмотреть, не Артур ли вернулся с охоты; ноги в кольчужных чулках прозвенели по лестнице, клацая, словно шпоры о камень; и еще не успев понять, что происходит, Гвиневера уже то ли плакала, то ли смеялась, уже неверная мужу, а впрочем, знавшая всегда, что когда-нибудь это с ней обязательно случится.