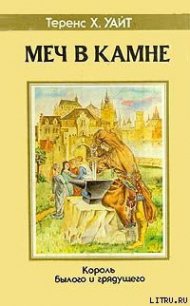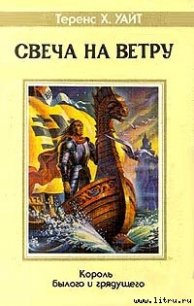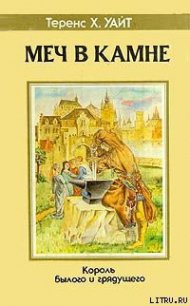Рыцарь, совершивший проступок - Уайт Теренс Хэнбери (читать книги без сокращений txt) 📗
14
— От твоего отца пришло письмо, Ланс, — сказал Артур. — Он пишет, что на него напал Король Клаудас. Я обещал, если возникнет нужда, помочь ему справиться с Клаудасом в благодарность за помощь при Бедегрейне. Придется отправляться во Францию.
— Понятно.
— А ты что собираешься делать?
— То есть как — «что я собираюсь делать»?
— Ну, хочешь ли ты ехать со мной или останешься здесь?
Ланселот прочистил горло и ответил:
— Я сделаю то, что ты сочтешь за лучшее.
— Конечно, тебе будет тяжело, — сказал Артур, — и мне очень неприятно тебя об этом просить, но как ты посмотришь на то, чтобы остаться?
Ланселот не сумел найти безопасных слов, и Король счел его молчание признаком обиды.
— Разумеется, ты имеешь право проведать отца и мать, — сказал Артур. — Я не хочу, чтобы ты оставался, если это причинит тебе боль. Возможно, мы что-нибудь придумаем.
— Но почему ты не хочешь, чтобы я покинул Англию?
— Мне нужно, чтобы кто-то присматривал за партиями. Я буду чувствовать себя во Франции спокойней, зная, что у меня в тылу остался надежный человек. В Корнуолле вот-вот начнется свара между Тристрамом и Марком, а тут еще Оркнейская вражда. Ну, тебе же известны все наши трудности. И потом, приятно будет думать, что есть кому позаботиться о Гвиневере.
— Возможно, — сказал Ланселот, мучительно подбирая слова, — тебе было бы лучше довериться кому-то другому.
— Не говори ерунды. Кому другому могу я довериться? Тебе достаточно лишь высунуться из конуры, как все ворье разбежится.
— Да, образина у меня не из самых смазливых.
— Кровь леденит! — с нежностью воскликнул Король и хлопнул друга по спине. А потом он ушел, чтобы распорядиться о подготовке к походу.
Двенадцать месяцев провели они в странном раю — год, исполненный радости, какую переживает лосось на гладкой гальке речного дна, в прозрачной, как джин, воде. Следующие двадцать четыре года они прожили под гнетом вины, и этот первый год остался единственным, в который они испытали подобие счастья. Под старость, оглядываясь на него, они не могли припомнить за все эти двенадцать месяцев ни одного дождливого или студеного дня. Все четыре времени года сохранили в их памяти краски, в какие расцвечены закраины розового лепестка.
— Не понимаю, — говорил Ланселот, — как ты можешь меня любить? Ты уверена в том, что любишь? Ты не ошиблась?
— Мой Ланс.
— Но мое лицо, — говорил он, — это же ужас. Теперь я готов поверить, что Бог способен любить наш мир, каков бы он ни был, — я это знаю на собственном опыте.
Временами их окутывал страх, который исходил от него. Сама Гвиневера раскаяния не ощущала, но заражалась им от любовника.
— Я не смею задумываться. Не смею. Поцелуй меня, Дженни.
— И не задумывайся.
— Не могу.
— Ланс, милый!
Случалось им и ссориться безо всякой причины, но даже ссоры их были ссорами влюбленных и казались в воспоминаниях сладкими.
— Пальцы стопы твоей — как поросята, которых гонят на рынок.
— Не смей говорить подобных вещей. Это непочтительно.
— Непочтительно!
— Да, непочтительно. А почему бы тебе и не быть почтительным? Я, как-никак, Королева.
— Ты что, всерьез хочешь уверить меня, что я обязан выказывать тебе почтение? Мне, видимо, надлежит по целым дням стоять пред тобой на одном колене и целовать твою руку?
— Почему бы и нет?
— Послушай, не будь столь себялюбива. Если я чего и не выношу, так это когда со мной обходятся, как со своей собственностью.
— И я же, по-твоему, себялюбива.
И Королева топала ножкой или целый день потом дулась. Впрочем, после того как он подобающим образом являл раскаяние, она прощала его.
Как-то раз, когда они рассказывали друг дружке о самых своих сокровенных чувствах, невинно умиляясь, когда они совпадали, Ланселот поведал Королеве о своей тайне.
— Ты знаешь, Дженни, в детстве я себя ненавидел. Не знаю, отчего. Я чего-то стыдился. Я был чрезвычайно благочестивым и праведным мальчиком.
— Теперь-то ты праведностью не отличаешься, — сказала она со смехом. Она не понимала, о чем он ей рассказывает.
— Как-то брат попросил у меня на время стрелу. У меня было две или три особенно прямых, я ими очень дорожил, а у него все стрелы были немного гнутые. И я притворился, будто потерял стрелы, сказал, что не могу их ему одолжить.
— Врунишка!
— Это-то я понял мгновенно. После меня мучали нещадные угрызения совести, я считал, что солгал перед Богом. И потому я отправился в ров, у нас там были крапивные заросли, и засунул стрелы в крапиву, в виде наказания. Закатал рукав и сунул их в самую гущу.
— Бедный Ланс! Каким невинным крошкой ты был!
— Но, Дженни, крапива не жглась! Я совершенно отчетливо помню, что крапива меня не ужалила.
— Ты хочешь сказать, что случилось чудо?
— Не знаю. Наверняка утверждать трудно. Я был таким мечтателем, жил в выдуманном мире — я был в нем величайшим из Артуровых рыцарей. Может быть, я и придумал все это, насчет крапивы. Но мне кажется, я помню, как меня потрясло то, что крапива не жжется.
— А я уверена, что случилось чудо, — решительно заявила Королева.
— Дженни, всю жизнь я мечтал о том, чтобы творить чудеса. Я стремился к святости. Видимо, мной владело тщеславие или гордыня, или еще что-нибудь недостойное. Завоевать мир казалось мне недостаточным — я хотел еще завоевать небеса. Меня томила такая алчность, что звания сильнейшего рыцаря мне было мало, я желал еще стать наилучшим. Вот чем плохи мечтания. Я потому и сторонился тебя. Я знал, что если я не сохраню чистоту, то никогда не смогу творить чудеса. И ведь я уже сотворил одно, замечательное. Я освободил девицу, помещенную чарами в кипящую воду. Ее звали Элейной. А потом я утратил мою мощь. Теперь, когда мы вместе, на чудеса я уже не способен.
Он не хотел говорить об Элейне всю правду, боясь ранить чувства Гвиневеры признанием, что она не была его первой женщиной.
— Почему же?
— Потому что мы согрешили.
— Лично я никогда никаких чудес не творила, — с некоторой холодностью произнесла Королева, — так что мне и жалеть особенно не о чем.
— Но Дженни, я ведь и не жалею ни о чем. Ты — мое чудо, ради тебя я снова отказался бы от всех остальных. Я лишь попытался описать тебе мои детские чувства.
— Что ж, не могу сказать, что я их как следует поняла.
— Разве тебе не понятно желание в чем-то преуспеть? Впрочем, конечно нет. Я знаю, тебе его понимать и не нужно. Это лишь те, кто чего-то лишен, или дурен, или унижен, — только они и нуждаются в успехе. Ты же всегда была цельной и совершенной, тебе и выдумывать было нечего. А я вечно что-то выдумывал. И временами — даже сейчас, с тобой, — меня охватывает ужас при мысли, что я больше не смогу быть лучшим рыцарем мира.
— Ну, так давай все это прекратим, ты как следует исповедуешься и сотворишь еще много чудес.
— Ты ведь знаешь, что ничего прекратить мы не можем.
— По-моему, все это какие-то капризы, — сказала Королева. — Ничего не могу понять. Какие-то самовлюбленные фантазии.
— Я сознаю свое себялюбие. И ничего не могу поделать, хоть и стараюсь избавиться от него. Но разве себя изменишь? Ох, ну разве ты не понимаешь, о чем я тебе говорю? Мальчишкой я был одинок, я изнурял себя упражнениями. Я повторял себе, что стану великим путешественником и пройду пустыни Хорезма, или великим королем вроде Александра или Святого Людовика, или великим целителем — найду бальзам, исцеляющий раны, и буду раздавать его даром; а может быть, стану святым и буду залечивать раны одним лишь прикосновением; или отыщу что-нибудь невиданно важное — Истинный Крест или Святой Грааль, что-нибудь такое. Вот о чем я грезил, Дженни. Я только рассказываю тебе о моих привычных мечтах. Это и есть те чудеса, которые я утратил. Я отдал мои надежды тебе, Дженни, это был дар любви.