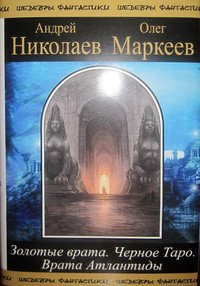Черное Таро - Николаев Андрей (книги онлайн полностью TXT) 📗
Корсаков упал на колено, сабля вывалилась из пальцев. Головко, соскочив с коня, метнулся к нему.
— Доигрались, дуэлянты хреновы, — воскликнул он. — Семен, готовь слеги. Отвезем его в лагерь, пока живой еще.
Двое казаков поскакали к лесу. Хорунжий положил Корсакова на траву, приподнял ему голову. На губах корнета выступила розовая пена, из раны на щеке струилась кровь. Он кашлянул.
— Бумаги не забудь, Георгий Иванович, — чуть слышно сказал он.
— Эх, мать честная! Ты о себе думай, поединщик! — Головко разорвал рубаху на груди Корсакова, обнажив узкую рану под соском, — Митяй, помоги.
Вдвоем они изорвали рубашку Корсакова на полосы, крепко перевязали ему грудь и голову. Подскакал Семен, волоча две длинные слеги. На них набросили бурку, подвязав полы, закрепили меж двух коней. Головко подхватил с земли остатки блокнота, велел двум казакам остаться, чтобы похоронить князя Козловского и Сильвестра и вскочил в седло.
Четыре эскадрона Лейб-гвардии гусарского полка остановились на постой в небольшой деревушке. Головко нашел полковника в крепкой избе старосты деревни. Выслушав хорунжего, Мандрыка крепко выругался.
— Как знал, что рано мальчишке этому команду давать! Где он?
— На дворе, ваше высокоблагородие, — ответил хорунжий.
Полковник быстрым шагом вышел во двор. Корсаков по-прежнему лежал на бурке.
— Снимите его и несите в избу, — распорядился полковник, — врача быстро, — скомандовал он ординарцу.
Казаки осторожно сняли корнета с импровизированных носилок. Корсаков открыл глаза и, узнав полковника, хотел приподняться.
— Лежи, лежи, Алеша. Что же это ты, а?
— Судьбу проверить хотел, Николай Яковлевич, — прошептал Корсаков. — Где бумаги, — он поискал глазами Головко.
Тот вынул из-за пазухи блокнот и подал ему.
— Француз уничтожить хотел, верно, секретное что-то, — сказал он, потягивая блокнот полковнику.
Мандрыка раскрыл блокнот, перелистал его и, закусив губу, исподлобья взглянул на хорунжего.
— Кто-нибудь видел, что здесь написано.
— Никто, ваше высокоблагородие, — хорунжий вытянулся под его испытующим взглядом.
— А ты, Алексей, читал?
— Мельком взглянул. Не до того мне было, — попытался улыбнуться корнет, — а что там?
— Важные бумаги, — уклончиво сказал полковник, — услуга твоя неоценима, а что до судьбы… Ты даже не представляешь, с чем свою судьбу связал. Слыхал ли ты такие слова: требуется пролить реки крови, чтобы стереть предначертанное?
— Что-то в этом роде говорил князь Козловский, царство ему небесное.
Невесело улыбнувшись, Мандрыка, будто для пожатия, протянул ему руку. Хорунжий заметил некоторую странность в жесте полковника — его рука, вместе с большим пальцем, легла в ладонь Корсакова. Но раненый, не обратив на эту странность внимания, слабо пожал протянутую руку командира.
— Сейчас врач будет, — сказал Мандрыка, — вот на ноги встанешь, уши то надеру. А за бумаги не беспокойся, я доставлю, куда следует.
Час спустя ординарец полковника покинул расположение полка, увозя в ташке пакет, с приказом доставить его князю Николаю Ивановичу Новикову в собственные руки.
Глава 2
«…в возникновении нового героя художник видит не продолжение традиций классической живописи, в большинстве своем умирающих или уже погребенных под натиском молодого искусства, но перспективы модальности взгляда, обращенного внутрь сознания творца, выход на стартовую точку, откуда возможно будет оценить предстоящее без неестественно-насильственной стимуляции личности. Обиталище мысли, раскрепощенной возникающим на холсте безумием, способно в случае кризиса вывести мечты на уровень невменяемости, стилистически…»
Игорь Корсаков зевнул и поднял глаза к потолку. Потолок студии был стеклянный и сквозь стекло на Игоря смотрели звезды. Четкие и блестящие, словно вкрапления слюды в темной породе, они иногда расплывались туманными пятнышками, двоились и тогда он прищуривал глаза, фокусируя зрение.
«…эстетика больного ума умерла, выхолощенная ремесленниками от искусства, — говорит Леонид Шестоперов, — авангард выродился, концептуализм в кризисе. Кого сегодня удивишь посыпанной золотым песком кучей дерьма на холсте? Кто остановится возле инсталляции из гниющих отбросов, нанизанных на шампур над угасшим костром? Прошло время, когда критики искали и находили в русских художниках выразителей отвлеченных и духовно свободных направлений живописи, графики, инсталляций и даже перформанса, вынужденных скрывать свои работы от официозных деятелей воинствующего соцреализма…»
— Ты зачем мне эту херовину подсунул? — спросил Корсаков, роняя журнал на пол, — я тебе что, первокурсница из Строгановки, чтобы охмурять меня забугорными публикациями? Ты еще расскажи, в чьих коллекциях твоя мазня висит и за сколько на последнем Сотби ушло нетленное полотно «Путь жемчужины через кишечник черепахи».
— А что, очень даже неплохо ушло, — пробурчал Леонид Шестоперов, терзая зубами вакуумную упаковку с осетровой нарезкой, — черт, нож есть в этом доме?
— Тебе лучше знать, — пожал плечами Игорь, — твой дом.
Шестоперов рванул упаковку, куски рыбы вывалились на рубашку, на джинсы. Масло потекло по подбородку.
— Во, бля, — Леонид собрал осетрину, сложил ее на блюдце и ухватил масляными пальцами бутылку виски, — ну, повторим?
— Давай, — Корсаков взял стакан, — за что пьем?
— За тебя, Игорек! Вот ты смог, а я нет, — с горечью сказал Шестоперов. Как обычно, к исходу первой бутылки он стал сентиментально-слезливым и завистливым, — ты смог остаться самим собой, не продать свое искусство, свой талант, свою душу…
— И живу, как последний ханыга, — добавил Игорь, — поехали, — он опрокинул стакан в рот, проглотил виски залпом и, нащупав пальцами маслину, закусил, сморщившись от сивушного привкуса заморского зелья. — Ты что, водку не мог взять? Все понты твои… всегда любил пальцы раскинуть.
— Ну, не ругайся, старичок. Тебя порадовать хотел. Вот ехал и думал: первым делом Игорька найду! Сядем, выпьем, вспомним былое, а потом и за работу. Веришь, нет — не могу там работать! Жлобы они там все! Галерейщик мне квартиру со студией в Челси снял — это после выставки в Бад Хомбурге. Давай, говорит, Леонид, твори! А я не могу… — Шестоперов хлюпнул носом. По мере опьянения он становился плаксивым и обиженным на весь свет, — и деньги… всюду деньги. Ты хоть знаешь, сколько берет какой-нибудь отставной пшик… шишка отставная за присутствие на открытии выставки в какой-нибудь занюханой, засраной, задроченой… их-к… галерее? Типа нашего Горби? Ну, Горби не знаю, но ва-аще… штук по пять, а то и по десять настоящих зеленых американских рублей, с портретом в парике! Жлобы они меркантилы…льные! Размаха нет, а они центы считают! Вот ты…
— Сижу себе на стульчике на раскладном, — подхватил Игорь, подумав, что если Леня стал путать слова, то пора сделать небольшой перерыв, — дышу вольным воздухом Арбата, отстегиваю бандюганам или ментам положенное и в ус не дую. Могу водочки тяпнуть, могу косячок забить.
Стадии опьянения Леня Шестоперов отсчитывал по собственной шкале: слезы-обиды; язык мой — враг мой, в том смысле, что не желает выговаривать то, что хочется; трибун-обличитель; братание с народом и последняя стадия, которую еще мог воспринять сам Корсаков — синдром пролетария, или «все на баррикады».
— Вот, видишь, ты свободен, Игорек, — с полным ртом закуски невнятно сказал Леня, — а мне там и выпить не с кем. Ходят вокруг картин со стаканами, улыбаются, зубом сверкают. «О-о, мистер Шестопиорофф!!! Как поживаете? Прекрасная выставка, пожалуй, я что-нибудь приобрету». Да бери даром, гад ты лоснящийся, только душу мою… мою, — Шестпоперов гулко стукнул себя кулаком в грудь, захлебнулся от переполнявшей обиды и, решительно схватив бутылку, разлил остатки по стаканам. — И сорвешься, а как не сорваться? Заказы стоят, сроки горят, галерейщики визжат, а мне — насрать! У меня — запой! Понимаете вы, кровососы, тоска у меня по стране своей непутевой, по родным осинам и сизым рожам!