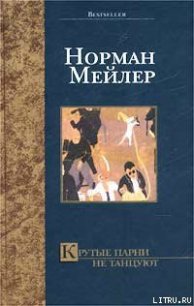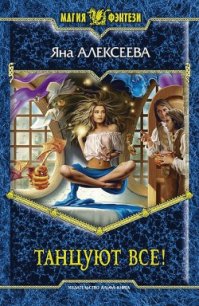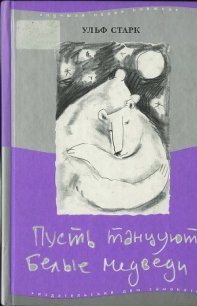Рыцарь умер дважды - Звонцова Екатерина (чтение книг TXT) 📗
— Молодец. Но лучше не высказывайся так о Жанне. Ты забываешь, что она…
— …Твоя подруженька, которая все делает хорошо! — Ее дерзко обрывают. — Заменившая тебе меня. А также наш свет надежды!
Кьори, дернув острым и обвислым, как у Цьяши, ухом, невозмутимо продолжает:
— …ранена. Не просто так многие говорили о ее гибели. Ее наверняка настигли. Ты ведь помнишь, кто шел по ее следу?
Кто. Простое слово, а меня продирает озноб. Теряет часть лихости и Цьяши: на пару секунд сжимается, пытается стать меньше. Но, видно, она не умеет бояться долго, тут же распрямляется как тугая пружина и парирует:
— Пусть так. Вот только слушай, Кьори, эта девчонка не ранена, нет. Грязная — да, перепуганная до поджилок — да, несла чушь — да. Но кровью она не истекала. И эта ее тряпка… разве обличье воина?
— Жанна всегда приходит в такой одежде. Для ее народа она обыденна.
— Счастлив мир, где не надо носить брони и оружия да таиться в траве…
Тон Цьяши желчный, голова упрямо наклонена. Кьори все так же спокойно вразумляет:
— Прошло немало с тех пор, как Исчезающий Рыцарь покинула нас. Раны могли зажить, но не забывай: Жанна — дитя мира, где давно нет войны. Ее навыки при ней, просто ей нужно…
Незнакомка оправдывает меня так горячо и искренне. Впрочем, меня ли?
— Ладно. — Цьяши обрывает ее досадливым жестом. — Поняла! Ты видела, как эта твоя Жанна бьется, я — нет; мне нечем возразить, у меня нет и основания тебе не верить. Но, — растопыренными пальцами она тыкает себя в веки, — глазам я тоже верю, они еще меня не подводили. Девчонка не то что не умеет драться, даже не может поднять самострел.
Кьори молчит; ее рассеянный взгляд обращается на меня, и я торопливо зажмуриваюсь. Я не смогу притворяться беспамятной вечно, но пока не готова говорить с этими девушками. Надо послушать, понять. Они принимают меня за кого-то, и не только они. А главное, одна из них явно любит этого «кого-то», этим можно воспользоваться, чтобы… выбраться? Откуда?..
— Впрочем, я всегда так думала, Кьори, уж извини, — пробивается ко мне напористый голос Цьяши. — Жанна — красивый образ, чтобы вышивать ее на тряпках, принимать ее благословляющие поцелуи, чтобы она красовалась в своих белых одеждах и чтобы о ней пели песенки за выпивкой. На большее…
— Она способна на большее! — Кьори впервые повышает тон. — Всегда была, даже в день, когда явилась. Ты убедишься, едва она оправится, ты будешь сражаться с ней плечом к плечу. Теперь, когда ты в наших рядах…
Гибкая Лоза фыркает, я же холодею. Сражаться? Тошнота усиливается, и как сквозь пелену я слышу вновь смягчившийся голос Кьори:
— Не будь такой. И следи за языком, прошу. Ты совершила подвиг, выручив Жанну. Великий подвиг, слышишь? Это оценят, ценю и я. Чем ты недовольна?
— Мечтаю совершать подвиги, — колко отзывается Цьяши. — За этим и притащилась, да. Только не люблю бесполезных. В принципе не люблю, а на войне — особенно. И не нужны мне никакие вышитые девки…
— Цьяши!
Я открываю глаза в миг, когда она скидывает плащ и демонстративно топчет бело-зеленую вышивку. Подбирает часть добычи, прижимает к груди и шагает прочь, сухо пояснив:
— Пойду сдавать трофеи. Сил нет смотреть на эту неженку. Возись с ней сама, мисс жрица!
— Мисс?.. — Кьори улыбается, несмотря на гнев Гибкой Лозы. Та раздраженно поясняет:
— Так твоя подруженька говорила, мне рассказывали. Эта тоже говорит. Фу. — И злобный комок зеленых волос, самострелов и ненависти ко мне выкатывается прочь.
Кьори стоит, нервно стиснув перед грудью тонкие руки. Она смотрит не на меня и не вслед подруге, а на одну из гроздей светящихся грибов. Девушка огорчена, а может, задумалась. Наконец она поднимает плащ, бережно отряхивает, вглядывается в лик — мой лик — на грубой ткани… и грациозно разворачивается ко мне настоящей.
— Слушаешь? Так я и знала. Не злись, она горячится, потому что ревнует. Мы были в детстве неразлучны, она… Ох, я не о том! Жанна, милая, милая моя…
Кьори говорит быстро, на последних словах спешит ко мне, не отводя жгучего испуганного взгляда. Я смотрю в ответ, но не двигаюсь, пытаюсь понять, о ком же, о каком существе напоминает изящная незнакомка. Образ настойчиво маячит на краю сознания, но ускользает.
— Ты не умерла, — внезапно охрипнув, продолжает она. — Ты вернулась. Я так боялась, я думала, все кончено, если бы ты только знала, как я сожалею, и… просто скажи. Как ты? Я… я…
Она запинается, останавливается, смотрит — пытливые глаза на нежном лице. Она ждет, и мне приходится, разомкнув сухие губы, ответить:
— Если быть честной, мисс… неважно. Или даже прескверно. Где я нахожусь?
Кьори шарахается, взметнувшейся рукой прикрывает рот, бледнеет. Только что почти счастливая, она словно гаснет.
— Ты… — исчезает из голоса звонкое журчание. — Ты не Жанна! Не Жанна. Ты… — казалось бы, она уже на пределе ужаса, но нет, до предела далеко. — Ты… Эмма?
Она зовет меня настоящим именем первая в этом мире. Мире, который я вскоре буду знать как Агир-Шуакк — «Зеленый». Мире, где затянутое изумрудными облаками небо скрывает немые Разумные Звезды, а на знаменах вышивают мое — и не мое — лицо. Но все это позже. Ныне я в щемящем облегчении сама хватаю Кьори за руку. Я верю, что нашла ту, кто меня пожалеет, кто вернет жизнь на круги своя. Кто меня защитит и объяснит, что здесь творится.
Я ошибаюсь: несколькими вопросами и ответами Кьори разрушит мою душу, разум и веру. Не оставит камня на камне от моего прошлого и настоящего. А потом Зеленый мир протянет руки и к моему будущему, и я ничего не сумею сделать. Так ли просто оттолкнуть переломанные, окровавленные пальцы, простертые с мольбой о помощи?
3
ТИЦИАН И ДЖОРДЖОНЕ
Там
Суббота, проклятая суббота, наступает быстро — даже для меня, хотя не моя жизнь так изменилась, не мои дни проходят теперь в компанейских прогулках, не на меня обращено столько взглядов. Точнее я, конечно, присутствую при большинстве прогулок; мы с Джейн неразлучны, как и всегда, она ни за что бы меня не бросила. Вот только меня особенно не замечают: и Сэмюель, и миссис Андерсен увлечены Джейн, расспрашивают ее о лесе, о городе.
Новоприбывшие пока не появляются в Оровилле: мистер Андерсен объезжает окрестности, прикидывая, где проложить ветку, а его домочадцы разделяют наше общество и общество мамы. «Гнездо прелестниц» — так добродушно зовет нас отец семейства. Вместе интересно, ведь мы с Джейн ничего не знаем о Нью-Йорке и вообще о цивилизованных краях. Самый большой известный нам город — Сан-Франциско, недавний призрак с тысячей человек населения, а ныне ширящийся центр, куда спешат торговцы и владельцы шахт, магнаты и эмигранты. Но даже о Сан-Франциско мы знаем понаслышке, и если меня он манит, то Джейн почему-то отталкивает. О Нью-Йорке же она слушает с интересом. Неважно, что: о магазинах со стеклянными витринами, или о покоряющей ньюйоркцев моде на наши синие штаны «деним», [2] или о железнодорожных линиях, позволяющих попасть из одного конца города в другой: это называют метрополитен. [3]
Нью-Йорк очаровывает. Даже без трудновообразимых диковин он невероятен: пронизанный проводами, шумный и день за днем служащий гнездом для тысяч беглецов со всего мира. Город, где блестящие районы промышленников, политиков и банкиров соседствует с трущобами рабочих, нищей богемы, бродяг и преступников. Где в портах звучит наверное, больше языков, чем у нас в Оровилле. И где вряд ли знают такие страшные сказки: об исчезающих индейцах, неприкаянных душах старателей, разумных зверях, спускающихся с гор, и бандитах, убивающих шерифов в спину.
То, что рассказчик — Сэм с его живой обаятельной манерой, оправдывает мое неотрывное внимание. Я могу смотреть на Андерсена-младшего, ничего не скрывая, улыбаясь, задавая вопросы и получая пространные ответы. Я могу врать себе, будто его слова столь же адресованы мне, сколь и Джейн. Я могу верить: ничего еще не решено.