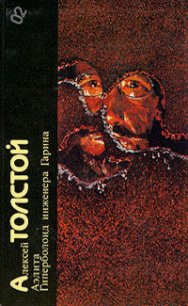Второе пришествие инженера Гарина - Алько Владимир (читать книги онлайн регистрации .txt) 📗
Задумывался Шельга и о Хлынове, в плане привлечения того; но конкретно пока вопрос не ставился им.
*** 74 ***
Будто в предчувствии своей судьбы, Хлынов заговорил о некоем абсолютном покое, имея в виду лишь некоторые философские вопросы естествознания. Собеседником его на этот раз был Франтишек Клечке – молодой ученый, помешавшийся на изотопах и готовый из чего угодно добыть «грамм» квинтэссенции, подобно тому, как радий из урана. Все мерещилось ему в идеях полураспада, в вечном становлении и движении. Хлынов благосклонно усмехался, отдавая приоритет в современной физике все же релятивисткой теории.
– Неизменность, – говорил он, – лежит в основе возможности самого изменения, как принципа, а значит и существования движения как такового. Любопытно, что Аристотель в своей «Метафизике» в основе любого микропроцесса и условием начала мира полагал именно некий запредельный абсолют, наделенный в первую очередь совершенным безотносительным покоем. Так что, вполне может статься, сама энергия есть лишь пограничная форма возмущения относительно такого покоя, как напор воды – к ограждению.
Кроме умственной разрядки в таких ничего не значащих разговорах, Хлынов имел возможность выяснить все, что мог, о городке У. и его окрестностях. Интересовался он, как водится, достопримечательностями, и все как-то само собой сходилось на замке барона фон Киркгофа. У Хлынова не было ни малейшего сомнения, что Зоя, она же мадам Ламоль, если где-то и могла найти убежище, так только там.
В один из дней он поездом выехал из Праги до Усти.
С платформы – в виду пристанционных домиков, водонапорной башни, серых газонов, прибитых пылью, Хлынов быстренько сошел на проселочную грунтовую дорогу: желтую, в выбоинах, с милыми и скромными полевыми цветами по обочине, спутанной травой и репейниками. Городок, таким образом, он миновал с самой его окраины, и все же сумел составить кое-какое мнение о нем по тем одноэтажным и двухэтажным домикам с высоким бельведером, крутыми черепичными крышами, окнами с деревянными ставенками. Он уже знал, что У. был самый, что ни на есть захолустный городишко, жители которого занимались преимущественно садоводческими и полевыми работами, переработкой сельскохозяйственных культур, и где с четверть трудоспособного населения работало на небольшом посудо-фаянсовом и керамическом заводике, принадлежащем тому же барону Киркгофу, соракалетнему отпрыску рода, неженатому, проживающему одиноко, имевшему сестру, безвыездно живущую в Восточной Пруссии. К родовому замку этого захиревающего семейства и направлял свои стопы Хлынов, надеявшийся пройти четырехкилометровый путь незаметным путником, миновать замок метрах в двухстах и, расположившись в недалекой рощице на всхолмии, понаблюдать в полевой бинокль. Кроме этого, за плечом Хлынова была дорожная сумка с термосом и бутербродами.
Парило, как только могло в конце августа месяца. Было без четверти по полудни. Яснела даль. Под самый горизонт, на северо-востоке, виделся густой пролесок, тронутый желтизной. Ложбинки обсыхали от следов утреннего тумана; с кочки на кочку прыгал длинноногий кулик, точно большое насекомое. Замок был хорошо виден уже в самом начале пути, – своей мощной, двойной кладки стеной, опоясавшей его по периметру, со сторожевыми башенками и центральными железными воротами. Дорога полями уходила дальше, в обход замка, не ближе 50-60 метров от него, но прямой, заасфальтированный отрезок в одном месте, со стороны города, вел к самым воротам. Так что пользование автомобилем здесь было как бы предопределенно. Чуть в стороне примечались еще какие-то фермы, раздольные пространства, похожие на выгон и даже ипподром.
Через километр пути по грунтовому твердому покрытию Хлынов сошел в поля, на жнивье, надеясь на большую скрытность своего передвижения, не представляя трудностей этого. В душе же он был возбужден и весел. (Пылало и лицо его, раскрасневшееся от солнца и ходьбы). Взывала к жизни каждая распростертая на земле былинка. От низу тянуло паром, и с тем во всем теле Хлынова распространялась странная сытость, будто он где-то уже успел подкрепиться молоком с ватрушками. Здесь, в скошенных клеверах и гречихе, казалось, нежился сам дух земли. Неумолчно звенели цикады. Высоко плыли перистые облака. В одной точке, словно поплавок на тихой воде, завис коршун. Рощицы в полтора-два десятка деревьев (все береза, осина) – стояли разбросанные то здесь, то там, в этой, в общем-то, равнинной местности.
Сейчас Хлынов сильно взял в обход замка, вступив на особо колкое жнивье. Прошел он уже километра три, изрядно натрудив себе сухожилия. Можно было подумать и о пункте наблюдения. Избрал он для этого недалекий холм, с густым подлеском, поросший дубками, кленом и молодыми осинками. Добрался. Отсюда, с расстояния метров в сто двадцать, просматривался фасад замка под углом в 90 градусов; полоска мощеного двора, с кое-какими застройками. Расположившись здесь, бросив плащ под левый локоть, сумку – на сторону, раскинув ноги, Хлынов разлегся, в самом, казалось, царствии духа земли. Возвел на прицел свой бинокль – через двор прошел мужчина… в два, три шага, и скрылся под навесом стены. Больше пока ничего интересного не было. Хлынов с ленцой потянулся. Плотное начищенной меди солнце прогревало спину. Затылок тяжелел. Стараясь обрести так необходимое ему равновесие – Хлынов опрокинулся навзничь. Глазами в небо. Почти космическая тишина (при непрестанном звоне цикад) снизошла на него. В глубине, по кривизне небосклона, как в «зеркале смеха», он увидел себя былинкой. И, удивительно, но даже переговоры цикад через расстояние, разделявшее их – человека разумного и безмозглую зеленую тлю, – казались Хлынову доступными. В масштабе значимости этого – быть, существовать – каждый имел равные права на счастье здесь, под горячим солнцем.
Вероятно, он пролежал так долго, когда, приподнявшись, никак не мог выпростать из-под головы онемевшую, шершавую руку – рукав чужого ворсистого пальто. Карминово-красное солнце зависло как раз над его переносицей. Тогда, рывком поднявшись, Хлынов сел в позе по-турецки; налил себе кофе из термоса, выпил еще теплого напитка из алюминиевого стакана, съел бутерброды. «Оборону мира» приходилось снимать. Первый день дозора не принес ему ничего, кроме уверенности, что мадам Ламоль здесь; совсем близко, рукой подать. Хлынов уже предвидел встречу, а пока собирался восвояси. Пешком – до поезда на Прагу.
В почти тронном зале – под готику, с узкими стрельчатыми окнами в свинцовом переплете стекол, в высоком кресле с гербами старинных родов – сидела одинокая женщина. Ее голова на красивой шее была настороженно и как-то умно приподнята. Глаза полуприкрыты и скошены… устремлены дальше самой способности видеть. Что-то хотела она услышать вне себя и даже за пределами замка, но слышала одну лишь себя. На ней было фиолетовое платье узкого покроя с глубоким вырезом на груди, на шее – уже известный медальон. Руки скрыты до самого запястья. Пальцы перебирают каменья. Главный камень – на сердце. Но его не так-то легко сдвинуть. Предвечерний свет красновато пыльно ложится на тяжелые малиновые портьеры; квадратом окна – на полу, в ногах женщины. Поодаль – стол, на нем – фрукты, графин с домашней настойкой, оловянные и мельхиоровые кубки. По сторонам – старинные дубовые шкафы; на стенах – эстампы, картины тусклого масла в кракюлинах, всякого рода боевые безделушки – от кривых турецких ятаганов и дуэльных пистолетов до алебард 15-го века. Кажется, все пропитано пылью, все – ветхость. На всем лежит печать безысходности.
Женщина глубоко вздохнула, ожидая для себя чего-то, но ничего не приходило, не являлось, не случалось. Так можно было потерять все. Принцессе на горошинке, в чужом королевстве – и то было легче. Но то был безобидный вымысел, сказка. Если действительность – это страны, города, люди, события, то куда теперь ей? Путь в Швейцарию заказан, Франция, Германия – отпадают с порога. Соединенные Штаты – тем более: там Роллинг и «дело Гарина». Перу, Аргентина – там уже побывала, чуть не умерла. Белого от солнца и ветхости Лиссабона хватило ей лишь на три месяца. И вот, говоря с иронией, мир у ее ног. Сиди теперь здесь. Поддернув узкое платье (дальше некуда), женщина с ногами забралась в глубокое кресло; еще более умно и настороженно положила голову на колени в крепе черных, ажурных чулок.