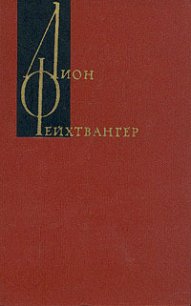Трав медвяных цветенье (СИ) - Стрекалова Татьяна (читаем полную версию книг бесплатно .TXT) 📗
Деток устроили в конце стола и дали по ложке. Ложки как-то сами собой тут же ударились одна об другую. Каждый от каждого получил по затылку. Грозный отец семейства блеснул на них свирепым глазом, и все трое съёжились и притихли.
За столом они долго не усидели. Молниеносно смолотили борщ да кашу, получили по гусиному ломтику, по плошке молока да пирогу. И – жалобно на батюшку уставились. А уйти – нельзя. Пришёл – сиди, томись, скучай. Привыкай к порядку.
Однако Зар пожалел деток. Кивнул на двери и палец к губам приложил. И все трое на цыпочках, боясь топнуть, вытекли в двери, выбежали в сени – а уж с крылец на двор – кубарем скатились.
А гости, понятно, засиделись. Потому как – самое удовольствие тут – беседа спокойная и праздное времяпровождение. Сиди при самоварном гудении, сдобном объядении, расслабленный-отдохновенный. В будни набегаешься!
Не всё устроилось так, как Евлалии мечталось. И больше пришлось ей крутиться не вокруг молодого сына, а вокруг старого отца.
Не потому что привередлив был Трофим Иваныч или чванлив, а просто такой уж устав.
Однако ж не в тягость показалось девушке старикам угождение: семья-то – Стахова! Что при нём – всё дорого-мило!
И вертелась. И не присела толком. Всё подавала-улещивала. И чувствовала на себе сдержанный Стаха взгляд. И взгляд этот словно маслил сердце. Что и говорить – приятно было Стаху, что девушка ублажает его родителей, что девушка старикам нравится. Хотя… как ни горько признать было – никакой корысти в том не было. Ни у кого не возникло сомненья – конечно, вовсе не Стах – другой жених нужен девице.
Сама скромность-вежливость был молодец. Всё в меру, всё бережно. Лишь одна только Лала ловила тот ладан и мёд, какой его взгляд источал.
Другие – другим были заняты. Разговоры заплетались по природе, по вкусу, по нраву. Как водится. Мужики – о сенокосе, бабы – о своей родне. Старушки – разумеется – про молодость. Особливо говорливая да бойкая тётка Яздундокта. Налили ей медовухи пенистой – и потянуло тётку на томные признанья:
– Я, – говорит, – в девках…
Начала и тут же оборвалась, вскинувшись на угодливую хозяйскую сестрицу:
– Лалу, да не егози ты!
И нетерпеливо рукой отстранив, пробормотала ворчливо:
– Красавица-девка! Только красота в глазах рябит… присядь ты хоть на миг!
И опять перешла на своё:
– Вот – в девках я, помнится, тоже не худа была – а только всех парней мимо ходила. На кого ни гляну – с души воротит. У того – нос, у того – рост, этот – прост, этот – хлёст. Всё мне мнился молодец, уж такой-такой, а какой – и вспоминать-то теперь смешно... Батюшка мой, Царствие Небесное, такого искать не стал, а выдал за Флора-соседа. Помню, в усмерть убивалась! Под руки меня к венцу ведут, как под топор… еле ноги волоку, а слёзы так и каплют… так и каплют… – тётка чувствительно всхлипнула и продолжала. – Вот поставили меня на полотенце… Жених то ли рядом, то ли нет – мне всё равно: знай, плачу. А вот – как венец накрыл, как вкруг аналоя обвели, как на амвон подтолкнули – вдруг у меня все слёзы куда-то делись… Вроде – полегчало. Потому как – дошло, наконец, что венчана, и другой мне судьбы не уготовано. Всё! По гроб! Голову подняла, на жениха глянула – и вроде ничего худого в нём. Смотрит ласково. И жалость в лице. Понимает, думаю. И зла не держит. И тут вот – сразу взяла – да вроде и – полюбила его. А уж как потом любила! Не сказать! Так до гроба и любила. Уж как тяжко мне без него стало, ой-ой-ой! одной-то… – аж подвыла тётка под конец.
Старушки кряхтели, поддакивали. Молодые бабы вздыхали, опершись на локти в пышных расшитых рукавах. Распарившимся от самовара – сладостно им обмахивалось белопёрыми курьими крылышками, для такого раза сохраняемыми. Мужики тётку не слушали, своё толковали:
– А вот если… а давай разом… вот, откосим… тогда сбросим…
Стах сидел против прекратившей егозить Лалы – глаза в глаза. Не таясь, глядел, сапогами под столом ноги прижимал, едва слышные речи вёл:
– Не расставаться бы нам с тобой, кралечка червонная! Так бы и сидеть, как сейчас, навеки вместе, неразлучно-нераздельно…
Медовухи щипучей-кипучей отведал Стах, оттого городилось у него нескладно-нетонко… не к месту.
Впрочем, не до них было гостям. Разговоры разговорив, мужики ещё себе позволили… – и кувшин иссяк. Последнюю каплю – капнули со всей торжественностью – Трофиму Иванычу.
После кувшина – одних на пенье потянуло, других на пляс. И то! Какой праздник без коленец ловких, без удали бесшабашной, без лихого противостояния?
Пока бабы пели, протяжно-надрывно, сердечное что-то – Зар вышел из дверей. Вышел – настежь ворота распахнул. Во всю грудь гаркнул:
– Эй! Дударей!
Дударей – так дударей! Как душа просит…
Душе вняв – пришли дудари Гназдовы. Старик, да степенный, да парнишка. Поглядывают выжидательно, с прищуром лукавым:
– Крепко гулять тебе, хозяин! Звал? Что скажешь?
Сказал Зар, головой тряхнув – и с оттяжкой рука рубанула воздух:
– Столько-то и столько-то плачу, чтоб играли на нашей улице дотемна – да и затемно!
Хоть Пётр и Павел час убавил, а всё равно не рано смеркается. Сообразил народ, что быть плясу до упаду.
На вёрткие, как угорь, да крепкие, что репка хрустящая, гуденья дударские понабрался люд на улицу. Потянулись со всех концов девки разукрашенные, следом ребята почтительные. С поклоном-обхожденьем держатся, плечами зазря не поводят, грудью не прут.
Это верно. На нашей улице гудёж-гульба – нам и хороводить! Здесь не заносись! Здесь Стах с Евлалией отплясывают!
И уж так им в тот день плясалось!
Одно другому не помеха! Народ щедро запрудил улицу, да и пару других, где игрецов слыхать. Мостовая укатанная гулом зашлась, как разом ударили в неё крепкие Гназдовские ноги. Пляши, ребята, раз охота! Оно веселей, когда танцоры подвалят! А вот порядков своих не заводи! Дай дорогу, когда молодец-Стах Евлалию-девицу в круг выцокивает! А ну-ка! Уноси, пока цел, полено – да ноги заодно!
Молодёжь, понято, в первую очередь каблуки отбивает, но и постарше чета в праздник не прочь сапоги промять. Потому – с увлечением плясали братья-Трофимычи с бабами своими, Зар с Тодосьей, и даже тётка Яздундокта до того развеселилась и расчувствовалась, вспомнив молодость, что не удержалась в зрителях, и – глядь! – уж в кругу платочек машет!
«А что?! Удала́!
Закусила удила́!
Нету старого? Пусть!
С молодым пройдусь!»
И – сквозь бойкий пляс – возьми да прорвись припевкой – жалобка слёзная:
– А и молоде́ц был старый! Любого младого бодрей! Али не удальцы мои Флоричи? Ведь все как один – в отца!
Никто не возразил ей, что два Флорича – в её родню, тот Трофим Иваныч вылитый, тот – Иван Трофимыч, старший сын… Пусть себе потешится бабка! Пусть черпнёт какой-никакой радости. Вот – хоть в пляске!
И до темна аж – выкаблучивалась да вывёртывалась, устали не чуя, вдовая тётка Яздундокта, да частушки задорные выкрикивала.
Какой там! Парня себе нашла! Какого-то хохотуна шустрого. Подкатил мальчишечка куражливо:
– Уж так ты ловко выплясываешь, тётушка! Дозволь, сплясать с тобой!
– Спляши, цветик алый! Спляши, голубь сизый! Уважь старуху!
И дробно-сухонько так каблучком притопнула, что сразу у всех вокруг внутри где-то защекотало и дух перехватило: ишь, как! И важно, плавно пошла выступать, хохотуну тому со всей царственностью руку подаёт, этакая пава – залюбуешься! Не скажи, что бабка!
Хохотун поначалу хохотать – хохотал, а потом не до хохоту стало: всерьёз расплясался, с удовольствием, с увлечением – забыл, что тётка! Вокруг тётки присядкой пошёл, коленца один другого старательней пред ней выделывает – и девки не надо!