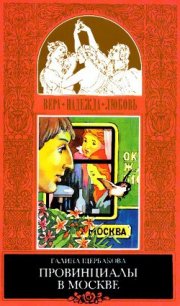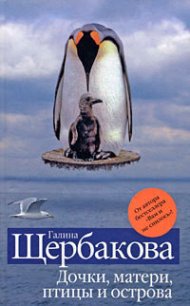Время ландшафтных дизайнов - Щербакова Галина Николаевна (первая книга .txt) 📗
Я говорю ему про Игоря, которого как бы жду, которого как бы люблю. В информации, полученной от мамы, Игоря нет. Гость обескуражен. Он выспрашивает подробности, и я плету ему незнамо что… Работа в Германии. Он приезжает через месяц. Мы женимся и уезжаем. Потом я забираю маму.
– Вот почему я тороплюсь с опекунством и переездом. (Хотя какое это имеет отношение к делу – непонятно.) Весь расчет на глупый иностранный ум, которому особенности нашей жизни не постичь.
– Вы взрослая женщина, Инга, и у вас ребенок. Я вам очень предлагаю все взвесить. Я стабилен. Мне уже не надо ничего доказывать. Я не слепой котенок, который ищет носом блюдце. Так выглядят все ваши эмигранты, Инга. Вам надо очень подумать. Дайте мне координаты вашего Игоря. Я могу узнать, каков он в бизнесе. Каковы его шансы? В Германии у меня родственники.
И он, сволочь, лезет в карман за записной книжкой.
– Если не получится, – отвечаю я, – он возвращается в свою фирму. Она выровнялась после дефолта. Если честно, мне этот вариант даже ближе. У меня хорошо сейчас идут дела. – И я гоню пургу про ландшафты, рисованные чашки, студию в школе и приглашения на разрыв во все глянцевые журналы. Я такая бизнес! Я такая вумен! Что, кажется, переборщила масла в картине.
– И все-таки, – повторяет он. – Все мои предложения в силе. Я хочу вас взять в жены без вашей успешности, а вот какая вы стоите передо мной: бедная и испуганная.
– Вы подло ведете себя с мамой, – говорю я.
– Мы с ней ни слова не сказали о будущем. Она много говорила о вашем отце. Я ей рассказывал о жене. Нам с ней приятно, уютно… Но, простите, это все. А вы – она та, которую я когда-то любил и оставил, и это было горе, у меня тогда чуть не разорвалось сердце. Но сорок лет – это сорок лет. Она совсем другая, а вы как бы та же. Вы пахнете, как она, Инга. У вас так же сверкают глаза. Ну что я с этим могу поделать? Я и предположить не мог возможности такого счастья.
– Да нет никакой возможности, – кричу я. – Нету! Мне физически от вас плохо. Я просто умру, если вы еще раз протянете ко мне свои руки.
– Хорошо, – отвечает он. – Я еще не уезжаю. Может, я дождусь вашего Игоря. И может, вы поймете, что старик – не худший вариант. И вас не от меня тошнило, простите. От собственного смятения.
– От инцеста, – вдруг выпаливаю я, – его в моей жизни слегка перебор. – Он ждет пояснений, но я открываю дверь.
– Без комментария, – говорю я. – No comment!
В последнюю минуту он дотягивается до моего лица и целует меня в щеку, долго вдавившись носом. Замечательный парфюм, ничего не скажешь. Но я холодна, как сугроб снега.
– Я еще приду, – говорит он.
– Только после звонка, – отвечаю я. – Я не люблю расплоха.
А потом пошли неприятности. Алиска как-то сказала, что хочет, чтоб я была ее настоящей мамой, по правилам. Так и не знаю, сама ли придумала или кто надоумил. Когда я всегда думала об опекунстве, в голове сидела простая мысль: девочка хорошо помнит мать, и удочерение мне казалось каким-то предательством Татьяны. Мать – это мать, а опекун – опекун. Но мы уже ведь долго вместе без всяких правил. Поэтому после Алискиных слов я решила, что уже имею право ее удочерить. Если бы я сделала это раньше, в своей однокомнатной квартире, ей Богу, все было бы чин чином. Но проклятая трехкомнатная Алискина квартира стала просто красной тряпкой для радетелей правого дела. Несмотря на все бумаги, меня стали подозревать в алчности. Не ради дитяти иду, ради площади. Одинокая голодная волчица жаждет захапать то, что принадлежит ребенку. И хоть у меня уже был вполне хороший адвокат, на каждом очередном заседании всплывала какая-нибудь протухшая рыба и вякала гнилым ртом, что со мной надо разобраться.
– Знаешь, – сказал мне адвокат, если бы ты была замужем, вони было бы меньше. Ты – девица, и доверия тебе нет. Никакого. Девица, в их понимании, уже потенциальная блядь, а большая квартира – притон. И нет партии и комсомола, который бы выдал тебе характеристику.
Мне никто не делал предложения, кроме варяжского гостя. Он был в Питере, собирался вернуться в Москву, уже чтоб попрощаться. Мама тосковала, и я видела: обижается, что в Питер звана не была. Уезжая, он мне сказал, что надеется по возвращении увидеть Игоря, ибо его беспокоит моя судьба, а если последнего не будет, то придется меня увозить силой.
Мама как-то сказала: «Владимир считает, что тебе было бы правильно уехать за границу. Ему понравилось в России, но он считает, что здесь всегда пахнет бедой – не одной, так другой. Он обещает тебе всячески помочь, и я уже думаю: может, он прав? Никто там не погиб, не канул, а здесь действительно фильм ужасов. Устроишься, и если я еще буду жива, вывезешь меня как кунтс-раритет. Но у меня всегда остается надежда, что я до этого не доживу. А ты еще молода, а Алиска вообще дитя. Так что видишь, какие преобразования случились у меня в голове».
– Ломай свою новостройку, – отвечаю я. – Она ни к черту не годится. И мне неохота уезжать. Мне нравится жить в стране, как это теперь говорят, с непредсказуемым прошлым и таким же будущем.
И вот, мыкаясь с нашей юридической бюрократией, я вдруг понимаю, что жизнь просто толкает меня к бразильянцу. Что этот самый экзотический выход может оказаться самым простым. Ибо у сексуально озабоченного бывшего маминого поклонника, ныне бодрого старичка, достаточно денег, чтобы потопить любую всплывающую говорящую рыбу.
– Ты хочешь жить за границей? – спрашиваю я у Алиски.
Глаза в пол-лица и в таком сиянье, что я бормочу: «Шутка! Шутка!»
– Жаль, – отвечает она. – Но я, когда вырасту, все равно буду жить в Париже. Я выйду замуж за француза и тебя заберу к себе. Ты же мама.
– Но у меня здесь тоже мама, – говорю я.
– Ну… – задумывается Алиса. – Ты не обижайся, но она к этому времени умрет.
Я не обижаюсь. У меня просто сжимается сердце. Неизбежное подошло и дохнуло в лицо.
Надо что-то, надо что-то делать…
И я набираю знакомый номер телефона.
– Слушай, – говорю, – как ты смотришь, чтоб взять меня замуж с ребенком?
– Господи! – кричит трубка. – Да хоть сейчас! Я же люблю тебя, дура!
Но до того как он ввалился в дом с охапкой каких-то нелепых экзотических цветов, которых я не выношу на дух, и возникло желание вытурить его одним махом (что ж ты забыл, сволочь, что мне нравится и не нравится), был разговор с Алиской.
– А как тебе дядя Миша? – спросила я.
В ответ – радостный смех.
– Он веселый. С ним можно болтать про все. Он может быть верным другом. Как собака. А собаки в дружбе первые. А что? Он тебе уже признался?
– В чем?
– Ну, Инга, чего ты ломаешься? Он высох, как белье на балконе… Такой весь мятый и жмаканый.
– Брось, девчонка. Он же меня уже кидал, твой друг-собака.
– Людям дается время застыдиться и исправиться. Нет, правда, Мишка мне нравится. Он больше не кинет. Он опомнился.
Так мы с Мишкой вдругорядь закинули невод.
Я пишу, а у меня перед окнами новый пейзаж. Мы, наконец, удочерили Алиску и переехали в Танькину квартиру. Выясняется, что она совсем невелика для троих. Во всяком случае, мой письменный стол притулился у подоконника нашей с Мишкой спальни. Другого места нет. Мишке это очень нравится. Он просыпается, а я, early bird, уже сижу за столом, и он еще какое-то время изучает мою спину.
– Очень ее люблю, – говорит он, вставая и целуя меня между лопатками. Очень сексуальная спина.
Он ставит чайник и будит Алиску. Я слышу, как они весело препираются. Мне нравится их смех. Последнее время я пристрастилась коллекционировать «смехи». Просто люди стали смеяться меньше, и от этого почему-то больно. Я не беру в счет ржачку тинов, это чистая физиология. Я имею в виду отдельный смех отдельного человека. Алискин смех – это смех счастья. У мамы смех-неуверенность: пришла ли ему пора? и можно ли? Мишка смеется, как мальчишка, тот конкретный, с прищепкой на штанах, что давал мне в детстве велосипед. Его смех – надежда, что все должно быть хорошо. Я на велосипеде, а он бежит рядом, и лучше не бывает.