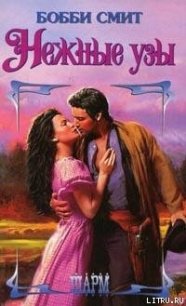Палм-бич - Бут Пат (книги бесплатно полные версии TXT) 📗
В ногах кровати, словно живое олицетворение ее изменившихся взглядов, лежала меховая шубка Кэролайн Стэнсфилд. Шубка уже больше не являла собой длинное, до лодыжек, свидетельство ушедшей эпохи. Она была усовершенствована и так же, как и вновь избранный президент, смотрела вперед, а не назад. С дерзостью прирожденной анархистки, Мэри Эллен поработала над шубкой ножницами, и в занимающемся рассвете та обрела новомодную длину чуть выше колена. Оставшийся после радикальной операции материал Мэри Эллен использовала для создания шляпки-таблетки, именно такой, какую она видела в новостях на Джекки Кеннеди, и теперь эта шляпка с муфточкой из того же меха лежали на кровати рядом с укороченной шубкой.
Мэри Эллен с надеждой взглянула в окно. Неужели эта свежесть в воздухе действительно предрекает зимнее похолодание, при котором температура упадет до сорока, а то и ниже? Мэри Эллен молила Бога, чтобы это произошло. И черт с ним, с урожаем цитрусовых. Мэри Эллен хотела носить свою шубку. Во Флориде так мало дней, когда она сможет пощеголять в обновке.
Она нетерпеливо схватила шубу и натянула ее поверх майки и джинсов, борясь с горько-сладким воспоминанием о спальне миссис Стэнсфилд. Теперь шубка принадлежит Мэри Эллен. Взятка за молчание? Анестезия против боли? Обноски для поверженной соперницы? Да 'что угодно. Это теперь не имело значения. Впереди целая жизнь. Здесь. Сейчас. В начале шестидесятых. А порезанный мех станет ее талисманом на будущее. Когда в него впились ножницы, то резали они не просто мездру. Они отсекали пуповину, которая связывала Мэри Эллен с прошлым. Наконец-то она свободна. Свободна быть самой собой.
Мэри Эллен откинула голову и посмотрелась в зеркало. А пошли они все куда подальше. Ей хотелось рассмеяться в лицо всему миру. Она молода и очень красива, и если Палм-Бич оказался ей недоступен, то доступным будет Уэст-Палм.
Однако, бросая вызов судьбе своей красотой и жизнерадостностью, Мэри Эллен вынашивала тайную мечту. В один прекрасный день, если Господь пошлет ей дочь, то этот ребенок станет тем, кем не пришлось стать ей. Мэри Эллен пошлет дочь через мост, чтобы завоевать землю обетованную, откуда ее так жестоко выдворили.
Подминающий сознание, закладывающий уши рок-н-ролл выбивал из мозгов любую мысль. Подобно ураганному прибою, он накрывал все вокруг: людей, моторы, сверкающий воздух, в котором вибрировал сам. Одолеть его было невозможно. Приходилось смиряться, сдаваться ему на милость.
Джек Кент колдовал на своей карусели, как танцор в балете исполняет собственные замысловатые па. Это были лучшие моменты его жизни, повторяемые по сотне раз на дню. Поезд медленно начинал свой волнообразный маршрут, и людской его груз, оживленный и готовый к движению, радовался нарастающему внутри возбуждению. Выкрикивая что-то друзьям, наблюдавшим за ними с выжженной травы, людям, сидящим в соседних вагончиках, пассажиры переходили на визг, чтобы быть услышанными за дикой, оглушительной музыкой во время разгона поезда. Предполагалось, что Джек должен лишь собирать билетики и следить за тем, чтобы все сидели безопасно, однако он здесь являлся как бы ковбоем на родео, квинтэссенцией духа ярмарки, каждым своим движением усиливающим трепетное чувство едва скрытой сексуальности, первобытной агрессивности, которые прячутся под внешней оболочкой любого человека. Он и сдерживал, и раскрепощал. В этом-то и заключался его секрет. Литые мускулы Джека Кента, гладкие и лоснящиеся под тонкой пленкой тавота, сжимались и расслаблялись, когда он, словно Человек-Паук, легко пробирался среди воющих пассажиров, отважно бросившись с неподвижного дощатого настила на мчащиеся вагончики только за тем, чтобы спрыгнуть через секунду назад, гулко ударив своими короткими, мощными ногами о доски платформы. Все вокруг было чревато болью и погибелью. Один неверный шаг, одно крошечное не рассчитанное движение, и Джек Кент превратился бы в ничто, в не стоящую внимания дребедень, вроде той, какую он часто молол языком. Чтобы усилить напряжение, он усложнял свою задачу и, играя со смертью, закуривал сигарету, выпивал банку пива, приглаживал свои черные напомаженные волосы, умело укладывая их кок на манер утиного хвоста.
Он постоянно вел диалог с пассажирами, которые оплачивали аттракцион.
– Эй, малышка. Какая красоточка. Держись крепче. Будь осторожней.
Из-за этого посетители приходили еще раз. Иногда и много чаще. Острым, опытным глазом Джек Кент подмечал все. Он видел, как во взоре девочки-подростка разгорается любовный жар, ноги ее сжимаются теснее, напрягаются созревшие груди. Ему были необходимы тугие оттопыренные попки, волнующая, мягкая подростковая кожа и оленьи глаза девственниц, отдававшихся ему на траве или стоя в будке генератора. Джек срывал с них облегающие джинсы, как избалованный ребенок разрывает обертку последнего из множества рождественских подарков, и вгрызался в них без всякой мысли о том, что они испытывают, удовольствие или боль. Все они сливались для него в одну. Теплые, трепещущие создания, которые существовали только для того, чтобы дать ему сознание собственного великолепия.
Мэри Эллен бессчетное число раз наблюдала за работой отца, и это ей никуда не надоедало. Она пропутешествовала с ярмаркой все детство. До этого Джек Кент перепробовал все. Бросал дротики, накидывал петлю на хлопковые сладости, даже работал на «угадайках веса». Но только побывав на карусели, нашел свое призвание. Джек оказался рожденным для этого. За коротких два года он утроил доходы от карусели, был принят в долю, а затем и выкупил ее у своего компаньона. Деньги были небольшие, однако ему хватило ума купить деревянную развалюху в Уэст-Палм, которая навсегда стала прибежищем для семьи. Сам находясь постоянно в разъездах, он создал домашний очаг для жены и Мэри Эллен. Сооружение было не ахти какое, с выцветшей, отслаивающейся краской, треснувшими балками и покоробившимися, неровными бревнами, однако оно наполнилось любовью и жизнью. По вечерам, когда Мэри Эллен подходила к дому, он выплывал из темноты, подобно грузовому пароходу из желтого густого тумана, и керосиновая лампа гостеприимно мерцала на крыльце. Отец, если он вообще находился в городе, пил в баре «У Рокси» с Уилли Бой Уиллисом и Томми Старром, однако мать сидела дома и приветливо окликала Мэри Эллен, когда та ступала на скрипучие половицы веранды, и густой ночной воздух наполнялся запахом чили и тихими звуками музыки кантри, которую она любила.
Глубоко вздохнув, Мэри Эллен собралась с силами, чтобы перекрыть музыку.
Томми Старр улыбнулся и попытался ответить. Затем смирился и широко развел руки, признавая свое поражение. А затем даже заткнул оба уха для большей ясности.
Томми любовно улыбнулся Мэри Эллен, и на его большом, с резкими чертами лице появилось выражение полнейшего обожания. Томми едва ли мог припомнить то время, когда он не был влюблен в Мэри Эллен, а просыпаясь по утрам и засыпая по вечерам, он ощущал горечь при мысли о том, что Мэри Эллен отказала ему. Теперь он почти смирился с действительностью. Мэри Эллен была слишком хороша для него и, к сожалению, сознавала это. И вовсе она не была заносчива или высокомерна, просто имела храбрость лелеять мечту. Город за водной гладью овладел ею, и теперь Палм-Бич и все связанное с ним будоражили ее кровь. Это началось с того момента, как ее наняли Стэнсфилды. Мэри Эллен увидела рай, и Уэст-Палм был позабыт. Совсем недавно появился было шанс. Эти богатые, высокомерные сволочи уволили Мэри Эллен. Томми так и не узнал, почему Мэри Эллен была опустошена; она погрузилась в бездну отчаяния, и на ее страдания было больно смотреть. Томми пытался подбодрить Мэри Эллен, отвлечь ее от этой стаи крыс за мостом, но она все равно отказывалась считать себя прежней девушкой из Уэст-Палм.
Как-то Томи после крепкой поддачи «У Рокси» напросился к Джеку в гости. Когда они пробирались по скрипучему крыльцу с пустым креслом-качалкой и потрепанной плетеной мебелью, из дома послышалось рыдание. Они пошли выяснить, в чем дело, и там, при свете беззвучно мигающего телевизора, перед Томми предстала картина, которая навечно врезалась в его память. Поперек латунной кровати, словно брошенная грустная тряпичная кукла, лежала Мэри Эллен, совершенное тело ее обрамляли мятые, неопрятные простыни. Она неподвижно застыла в прострации между сном и явью, мятое и грязное белое платье лишь частично прикрывало ее. Одна лямка сползла с плеча, и из-под верхней кромки платья невинно выглядывал розовый сосок, венчающий грудь идеальной конической формы.