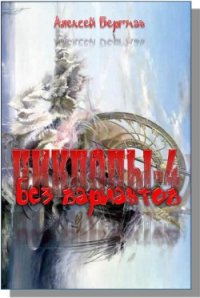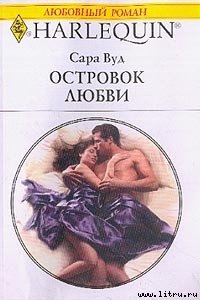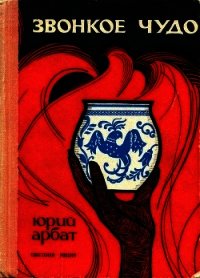Парадиз (СИ) - Бергман Сара (читаем книги онлайн бесплатно полностью txt) 📗
Уставилась на него задыхаясь, заломила руки…
И вдруг сникла, отекая на спинкой повернутый стул, опуская голову на руку:
— Я же все терпела… — тихо простонала она. — Я этот долбаный брак сохраняла ради Славки, — а Дебольский стоял и молчал. — Господи, ну почему я не ушла, почему? — наверное, уже не ему бормотала она. И качала головой, уткнувшись лбом в ладонь. Устав воевать. Шапочка волос тяжело осыпалась вокруг ее головы. — Ведь могла же, ну почему, почему? Я все думала: Славка. Родной отец… — связно и несвязно бормотала она. А во рту Дебольского проступала боль. — Думала, неродной любить не будет. А ты же родной… Да какой ты отец…
Дебольский молчал. Он не хотел ничего говорить.
К поздней ночи в квартире воцарилась тишина. Оба выдохлись и закостенели. Затонули в скользком, неустойчивом болоте апатии и замирения. Повисла невыносимая, медленная, вытягивающая душу пауза.
Наташка сидела в зале. Закрыв за собой дверь и погасив экран ноутбука. Замерла, сжав руки на коленях и глядя в пустоту.
Дебольский лежал на кровати в спальне и смотрел на мерно отсчитывающиеся на потолке минуты:
1:30
1:32
1:42
Мучительно гнело повисшее ожидание, терпкое, долгое, в котором каждый хотел действия от другого. Ждал, чтобы тот сделал нечто, что нарушило бы эту невыносимую тишину, избавило от тягостного бдения.
Но никто не решался. Хотя тошно было обоим.
Дебольский смотрел в потолок. И уже не курил.
На него давило невнятное, необъяснимое напряжение. Будто подспудное нетерпеливое ожидание чего-то, что должно было вот-вот случиться. И навязанное перемирие только усиливало это ощущение, натягивало нервы, подминая сознание под предчувствие неизбежного.
А часы медленно, неумолимо неспешно отсчитывали время на потолке. Их не волновали страдания людей внизу.
Наташка в соседней комнате боялась и молилась. Дебольский на кровати чувствовал ее мольбу сквозь стену, оклеенную полосатыми, выбранными вместе обоями, и тяготился ею. Ее вынимающим душу молчанием, взглядами, терпеливым настойчивым ожиданием. Даже той тишиной в комнате, в которой она замерла.
Когда женщина становится тебе безразлична, ее слезы не трогают, мольбы раздражают, от ее покладистости устаешь. И хочется тебе одного — уйти!
И найти нечто иное, названия чему Дебольский не знал. Что-то особенное, яркое, уникальное. Чего ты ждешь всю свою жизнь.
В звенящей тишине квартиры нервы его натянулись до предела, ловили и острым болезненным тиком дергались от каждого шороха. Биение сердца гулко отдавалось в висках.
Бам… бам… бам…
В первое мгновение, долю секунды, смешавшись со звуком телефонного звонка.
Зэ-эм… зэ-эм… зэ-эм…
Перевившись с ним, сплетшись и не отозвавшись в сознании.
А вместе с тем что-то уже вскипало в крови Дебольского, давая понять: вот оно, произошло. И тогда он подхватился, потянулся за дергающим карман брошенного пиджака сотовым.
В десять минут третьего в ночь с понедельника на вторник ему позвонила сама Лёля Зарайская.
Которая никогда раньше не набирала его номер.
В то время как он знал: запросто щебетала с Антоном-сан или Жанночкой — об этом легко и походя упоминали в офисной болтовне, — почти наверняка часто звонила Попову — о чем не говорилось, но, конечно, это было так.
И никогда женатому Дебольскому. Старому другу, привнесенному из детства, с которым вместе ходили в школу, вместе гуляли по кустистым дворам и обшарпанным подъездам, с которым провели упоительные месяцы в Крыму. Обладающему приоритетным правом на ее звонок, на ее голос в трубке, смех и отчаянную просьбу на той стороне несуществующего провода.
Но женатому. И потому ни разу не слышавшему, как звучит ее голос сквозь тонкую мембрану мобильного телефона.
Надрывным криком разрывая натянутые нервы:
— Саша! Саша, помоги!..
Он не ощутил как следует, не успел даже ухватить тона этого заполошного голоса или что-то сказать в ответ, а в трубке уже застучали часто поспешные, короткие гудки.
Дебольский вскочил с кровати.
Сам звонок этот, ночной, бессильный крик о помощи заставил сердце биться горячо и радостно. Как признание, как роспись в несовершенстве. В доверчивой потерянности, в необходимости, робкой слабости и подвластности.
Почти бегом кинулся он одеваться и увидел рубашку, брошенную на пол. Забытую в злом отчаянии. И как же изменилось его настроение теперь! — когда он натягивал свитер, застегивал ширинку на брюках. А кровь его радостно кипела в венах.
С восторгом поспешности вышел он в коридор, уже сжимая в руке ключи от машины, а в брючном кармане горячее, зовущее тело телефона.
Но тут уже в дверях в спину ему выбросился короткий отчаянный вопрос:
— Ты куда? — оттуда, где стояла растерянная, растрепанная жена. Бледная, осунувшаяся, красивая и нежеланная. Сжимавшая руками плечи и смотрящая на него расширенными, не могущими поверить глазами.
Дебольский поклялся бы, что минуту назад она жадно прислушивалась к кричащей трели телефонного звонка, раздавшейся через стену. Прислушивалась и — он ненавидяще, мстительно, мелочно испытал наслаждение — вскипала праведной болью обокраденного владетеля.
Осознавая ночной звонок как преступление, звонок как непростительный грех. Ведь женатому мужчине, война ли или землетрясение, смерть или болезнь, но не должны звонить ночью. Ведь он скован и повязан, и навеки обязан, оставаясь под подозрением. Намертво пригвожден во избежание побега.
Она все еще не верила: спрашивала так тихо, что почти робко. Наверное, боясь услышать ответ. Пугаясь предъявить собственнические права. Сознавая их шаткость, их безнадежную необеспеченность.
— Куда ты?! — закричала жена, и стены вокруг них трусливо дрогнули. Ее голос даже на мгновение прервал ликующий бой набата в его ушах, а потому только усилил злобу и раздражение.
И Дебольский радостно промолчал. Этим чистым, беспреступным, законопослушным звонком просьбы и беды он отыграл свое унижение через ее.
— Скажи мне, куда ты собрался?! — надсадно-истерично закричала жена.
Для того только, чтобы он, молча, не ответив, не удостоив ее — нелюбимую, нежеланную, чужую — ни словом, ни взглядом, распахнул дверь.
Ощущая почти восторг от освобождения и окончательности этого внутреннего безразличия, выходя за порог.
— Давай, уходи! — закричала она. — Убирайся! Выматывайся! — в спину, разрывая себе душу и баламутя мирную тишину других квартир, других семей. — Подонок! Ненавижу! Убирайся вон отсюда! Не возвращайся никогда!
да… да… да…
Разнесло эхо по длинному, утягивающему вниз лестничному коридору.
45
На улице, в чистом, холодном, освежающе колющем ночном воздухе, Дебольскому стало легче. Мгновенно омылось, просветлело, прожгло внутри опустошением.
И машина, будто торопясь увезти его отсюда: от дома, из двора, с улицы, — с радостной легкостью завелась. Не заглохла, не промолчала, а в тихом, согласном сообщничестве вынесла его на воющую ветром эстакаду МКАДа.
Оставляя для него полчаса полета по ночным холодно-прочищающим улицам. Полчаса на то, чтобы забыть тринадцать лет. Чтобы стать моложе, свободнее, счастливее.
Впитать мельтешение рекламных плакатов, остаточных огней, шумов, свистов, звуков, скоростей ночного города. Ощутить готовность существовать, вариативность, многотемность, звучность жизни. И себя самого таким — живым и подлинным.
Место куда он приехал — сам набрав Зарайскую, уже имея право, уже получив разрешение ее звонком, — оказалось самым обычным спальным районом. Очень тихим. Хотя он ожидал чего-то особенного, чего-то богато-броского, вызывающе-барского: коттеджной застройки, охраняемого элитного комплекса, Рублевки.
Ведь он знал — не мог не знать, — куда едет.
Но улица оказалась новостроечная. Обычная, ничем не примечательная, серая и по меркам Москвы дешевая. Обычные шестнадцатиэтажные коробки, серые безлиственные дворы, сутолока ночных припаркованных в упорядоченном, жадно распланированном хаосе машин. Спящие окна.