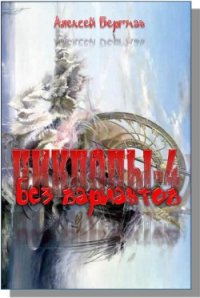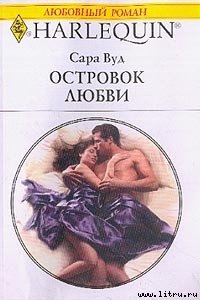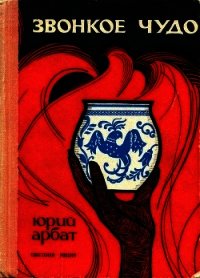Парадиз (СИ) - Бергман Сара (читаем книги онлайн бесплатно полностью txt) 📗
Дебольскому даже пришлось удостовериться, что он приехал, куда нужно. И то самое место действительно здесь — в густом мраке и спящей тишине, изредка разрезаемой клаксонами с дальней дороги и гулко шелестящим скудным потоком машин на шоссе. Он наклонился к рулю, вглядываясь в скрытную темноту улицы. На которой ни одна серая безликая громада не отличалась от другой. Одинаковые машины, одинаковые тротуары, неумное освещение. Металлическая дверь подъезда, утягивающая взгляд густым, изморно-синим цветом.
Он напряг зрение, вчитываясь в номера домов. Когда что-то глухо тронуло бок его машины — шу-ух-х — и легкий корпус едва ощутимо отозвался.
Дебольский первым инстинктивным движением подался к двери, одновременно хватаясь за переключатель скоростей. Не то в попытке разглядеть происходящее, не то поспешно рвануть с места.
Но в темноте за поднятым стеклом к собственному облегчению различил всего лишь узкую, ломкую фигуру. Хрупкое нестойкое тело, тяжело припавшее, опираясь на холодный металл машины. Будто ноги не держали ее на острых шипах надрывно высоких каблуков.
Зарайская попыталась открыть дверцу и даже нашарила ручку — потянула за нее безвольными непослушными пальцами, произведшими один только тихий едва различимый шорох. И не смогла.
На какое-то мгновение Дебольский оцепенел, но быстро нашелся и поспешно потянулся, сам выпрастываясь из удавки ремня безопасности, чтобы открыть ей изнутри. И вспомнил, как Славка даже в пять лет, цепляясь за высокую ручку маленькими пальчиками, легко ее открывал.
И услышал тихий шелест по крыше. Такой, будто она через силу отрывалась, заставляла себя не опираться, собираясь с силами. Или с духом.
Тяжело припав к двери, она наклонилась и, хватаясь за сиденье трясущимися пальцами, села в его машину.
Салон окутал запах горько-сладких духов. Приторный, жаркий. И какой-то еще: чужой, остро-терпкий, смутно знакомый. И от этой взвеси горячо заныло под ложечкой.
лицо ее было нежно-гладко, безупречно-чисто. И шелест тонких бескровных губ можно было угадать, но не услышать.
— Мне больно… Сашенька, мне больно…
Она на него не смотрела. Несмотря на произнесенное имя, казалось, даже не узнала. Сжалась и замерла, сведя острые колени под широкой юбкой, притиснув к горлу дрожные кулаки. Прямая, взведенная, расширенными невидящими глазами смотрела она в лобовое стекло — за которым была сплошная ночь и больше ничего.
— Мне больно, больно… Как мне больно…
Язык ее заплетался, и потому слово «больно» выходило странно, растянуто, текуче. Будто изломанным крошевом льда втекало в уши, морозными брызгами горного потока остужало кровь. Выливалось из нее стытью, а не шло от голосовых связок.
И Дебольский остро чувствовал, о какой боли она говорит, о боли незаглушаемой, не телесной.
Губы ее тряслись так, что слышен был стук зубов. И становился все громче и громче, отчего последние ее «больно-больно-больно» зазвучали дробным эхом, отдаваясь по всему телу колотьем онемения:
— …бо… ль…но… бо…
Зарайская рыдала.
Не так, как это делают другие люди. Не так, как Наташка: ссутулившись, спрятав некрасивое покрасневшее лицо, даже в демонстративном страдании своем не забывая стесняться его отечного вида, прижимая к щекам руки. И изливая горести в длинном раскатчивом, похожем на мычание стоне.
Зарайская же откинулась на спинку стула, спина ее напряженно выгнулась, и тело забилось в судороге. Как в агонии. Когда она почти беззвучно, с резким:
— А… ах-х… ах-х… — ловила раскрытым ртом воздух. И с мучительной силой закрывала глаза. Между плотносжатых ресниц которых текли слезы.
Она не прятала лица, не отворачивалась. Погибала и билась под высоковольтным напряжением своего мучения. А тонкие губы беспрестанно шевелились, будто она беззвучно с кем-то разговаривала. Из чего разобрать можно было — прочесть по губам или уловить в шорохах — только:
— Господи, как больно… господи, господи, как больно…
И Дебольский, охваченный внезапной жалостью, сделал первое естественное движение — то, которое сделал бы на его месте любой нормальный или просто живой человек. Заглушил машину, перегнулся через сиденье.
И обнял Лёлю Зарайскую.
Крепко прижал к себе, разделяя скорбь в объятиях. Шепча какую-то бессмысленную ерунду, которую спокон веков принято говорить в таких случаях. Уговаривая: «тихо-тихо», — и думая о том, что сейчас ей лучше выплакаться: громко, с надрывом, с криком, выплескивая нестерпимое наружу; бормоча: «все хорошо, все хорошо», — и ощущая тремор ее страдания, биение того, как ей плохо. Но так делалось всегда, и так делал Дебольский. Прижимая к себе остро-ломкое, мелко дробное тело. Путаясь в волосах, задыхаясь от горько-сладкого запаха.
Он чувствовал, как ее худые трясущиеся пальцы с неожиданно возникшей силой больно впиваются в его плечи. И кровь упоительно жадно загудела в висках. Зарайская давилась, захлебывалась слезами, а Дебольский ощущал, как под его руками бьются дрожащие плечи, спина, шея. Пальцы терялись в приторно-пахнущей душной сени волос. Горячее дыхание рыданий упиралось в его пиджак, и Дебольский насквозь чувствовал его жар.
— Т-ти-х-ххо, — путаясь в согласных, запинаясь, прошептал он. Замешавшись в поволоке теплых прядей. Захлебнувшись в ее запахе. Наклонился к самому лицу: — Т-ти…ш-ш-ш… — находя ртом ее холодные раскрытые губы.
дымное исчадье полнолунья
Их мучительная сладость хлынула в кровь Дебольского.
белый мрамор в сумраке аллей
Сминая, он целовал ее тонкие неподвижные губы, проталкивая язык в рот, жадно лаская острый сладкий язык, горько кислый, терпкий. И возбуждение бешеной пеленой застило глаза. Дебольский сжимал, подминая под себя острое, угольчатое тело, худые заломленные руки, ребра, проступающие сквозь тонкую ткань джемпера, выделяющиеся на нем сени сосков, острые ключицы.
роковая девочка, плясунья
Каким-то остаточным разумом, не умом, а бездумным телесным рефлексом потянулся он к ручке сиденья. Опрокидывая спинку назад. Распластывая под собой ломко тонкое, томно, терпко пахнущее тело Зарайской. Ощущая под собой ее плечи, живот, ноги, лобок.
лучшая из всех камей
Не отрываясь от ее рта, Дебольский потянулся к ногам, задирая, комкая складки пышной юбки. Слыша тот самый надрывный шелест, ощущая пальцами шероховатость ткани. Смятой под его животом, над ее широко разведенными ногами. Горько-сладкий запах духов впитывался в кожу через ноздри.
Дебольский, спеша, путаясь, не попадая в застежку ремня, рывком расстегнул свои брюки, вынимая огнем горячий член. Неловко изогнувшись, не отрывая жадного рта от ее губ, другой рукой оттянул в сторону белье. И нетерпеливым рывком подался вперед, вгоняя себя меж ее широко разведенных ног.
от таких и погибали люди
И испытал такое острое, нестерпимое, ослепляющее наслаждение, какого не испытывал никогда в жизни. Которое не мог себе даже представить, о существовании которого не догадывался.
за такой Чингиз послал посла
Сминая под собой ее тело, раздавливая своим, он вколачивался, и острое алчное удовольствие неслось по венам. При каждом сливающемся в одно целое толчке складки юбки под ним шуршали, дробились сладким звуком, разливались в крови, смешиваясь со слюной во рту. Когда он неистово целовал губы, щеки, шею, ключицы. И вкус этот отдавал солью.
Он упивался, разгонялся, спаивая жаром своей крови член с ее тугим, неподатливым, сопротивляющимся телом.
Дебольский вздрогнул и сбился с ритма. Задыхаясь и испуганно жадно ухватывая ртом ускользающий воздух, навис над ней на руках.
И увидел лицо Зарайской.
Она, откинувшись затылком на сиденье, зажмуривала глаза. И из-под ресниц рывками, похожими на рывки совокупления, текли слезы. На бледные, серые щеки, трясущиеся искаженные губы, по подбородку на шею, по вискам на волосы. Руки ее были сжаты в кулаки, притиснуты сведенными локтями к груди, напряжены выступившими венами и сухожилиями, дрожащими костяшками скрывая беззвучно кричащий рот.