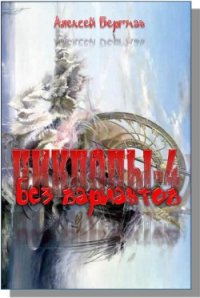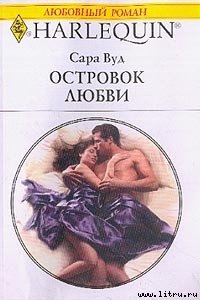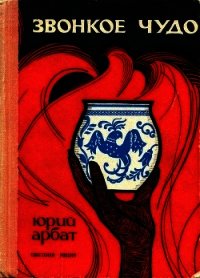Парадиз (СИ) - Бергман Сара (читаем книги онлайн бесплатно полностью txt) 📗
И почти обиделась. Не в силах потянуться навстречу существующей только в ее воображении «Ольге Георгиевне».
Зарайская даже как-то сникла и плечи ее чуть дрогнули. Но мягко улыбнулась:
— Я понимаю, — все же оставив блюдце на столе.
Но дар прекрасной Зарайской так и остался нетронутым.
Не стал есть торт и Дебольский. Его мутило. Он раскачал лодку своей жизни так, что у него началась морская болезнь. Во рту стоял привкус горько-сладких духов. И он осязал пальцами дрожь ее губ, щекотку волос.
Ночью он снова видел Зарайскую в темнеющем офисе. Когда все сидел и сидел после окончания рабочего дня и не уходил. Давно пора было ехать домой, но мысль о жене, о Славке, об ужине, о постели с приторно-семейственным запахом крема вызывала почти физическую тошноту.
И он оставался на месте.
Тупо глядя в компьютер, ничего не делая, ни о чем не думая, ничего не решая.
А Зарайская, будто тоже в каком-то сумеречном страхе не находя в себе силы, не решаясь уйти из стеклянной надежности офисных стен, сидела в малом конференце.
Где умоляющим, навязанным, нестерпимо исподневольным обществом не оставлял ее Волков.
Она откинулась на спинку вертящегося табурета, забросив на стол тонкие ноги, скрестив щиколотки, сжав колени. Рука ее покоилась на столе, и пальцы крепко сжимали замерший, застывший в недвижении ожидания шнурок. Глаза были подернуты не впускающей внутрь дымкой. Шелковая юбка складками свисала почти до самого пола.
А Волков с искаженным блаженством лицом дрожащими губами прижимался к пальцам тонко-эфирной, не предназначенной для земной пыли ступне. Склонившись над столом, трясясь и не смея тронуть руками. В потном кулаке он стискивал снятую туфлю. И упоенно целовал, не смея поверить в дозволенное…
Зарайская сидела, откинувшись на спинку стула. И смотрела над его головой, не видя Дебольского, стоящего через стекло. Сквозь него — в пустоту. И на лице ее застыла непосильная, нестерпимая мука.
— Ты меня заебала! — орал дома Дебольский. Всем телом, мыслями и глубинами подсознания ненавидя жену.
— Надоело, надоело, — метался по спальне, дергая на шее галстук, расхристывая ворот рубашки не в состоянии вздохнуть свободно, — ты меня душишь! — шипел он. — Отстань от меня, слышишь?! Оставь меня в покое! — кричал, оборачиваясь в сторону ее нервной и потерянной, но вполне симметричной ненависти.
Жена билась в истерике и орала в ответ. Устроив знакомый и родной сердцу каждого семьянина скандал.
Дебольский и хотел ругани, ждал ее, надеялся и уповал, как на спасение. Испытывая злой, безвозвратный, избыточный кайф отчуждения.
Наташка орала, преследуя его по комнатам. Из кухни в спальню, из спальни в зал, на балкон, обратно в кухню. В сладостном марафоне взаимного недовольства не давая войскам минутного вдоха-перекура.
Она вспоминала, оскорбляла, сетовала, негодовала, обижалась, страдала, упрекала, обвиняла и трусила. Одновременно и боясь, и не в силах справиться с собой выволакивая на поверхность все, что копилось тринадцать лет брака. Все то женское, что замалчивается, наслаиваясь коркой мелочных обид. Надежно утрамбовывается, спрессовывается в угнетенной памяти в ожидании звездного часа.
Никогда не выговаривается, никогда не забываясь.
Славку она увезла к его родителям. И мать звонила Дебольскому — обрывала телефон, волновалась, хотела узнать, что происходит. Но он не брал трубку.
— Я не могу всю жизнь сидеть в четырех стенах! — рвался он. — Меня тошнит уже! Сколько можно?! Тебе самой не тошно? Самой не надоело?
Остро вдруг осознавая, что это ее — женина — вина. Что ему скучно, муторно, блевотно постыло, что у него не стоит, и он не радуется жизни.
Виновато само это слово «жена», ей же важно было быть именно «же-ной», будто это дает какой-то статус, составляет какое-то волшебное, сакральное достижение. Получить штамп в паспорте, чтобы потом держать при себе, вцепившись клещами, связывая, топя в этом тухлом болоте рутины и превращая жизнь в ад. Скудный, серый, ежедневно-тошнотворно-обыденный ад постоянства, в котором, не замечая того, закисаешь и теряешь сам вкус, сам кайф жизни.
До тех пор, пока не сознаешь, что тебе уже ничего не хочется. И у тебя самого уже из всех желаний остается только диван и блюдца с голубой каемкой. А на шее вечным ярмом взывания к совести ребенок. За право иметь которого ты расплачиваешься давно обрыдлой работой и сексом без удовольствия, нудными выходными, однообразными вечерами. И неименным изо дня в день одинаковым, беспросветно знакомым, только расплывающимся и постылящим телом в твоей постели.
Дебольский с ненавистью рванул с себя рубашку, швырнул на пол и, не глядя, наступил, прошел по ней, мечась по дому. Что-то дикое рвалось изнутри, что-то, чему он не знал названия, но уже не мог удержать.
Он знал оно: хватит, все. Надоело. Надоело!
— Что тебе надоело?! — кричала жена, — собственный ребенок?! — а лицо ее неприятно исказилось, вызывая гадливость. И он уже удивлялся, зачем вообще ложился с ней в постель? Зачем обнимал?
— Не смей Славкой прикрываться! Не в Славке дело, а в тебе!
И конечно — конечно! — первым делом она начала давить ребенком. Ведь это же так правильно, так совестливо!
Позаботься о ребенке: ты должен, ты обязан. Всю жизнь обязан только потому, что раз не успел вытащить член до того, как спустил.
И Дебольскому остро захотелось крикнуть, что пошел он к черту этот ребенок. Он никогда его не хотел. И вся эта семья, вся эта скука, рутина, ежедневность — это краденые у него годы и жизнь впустую. Жизнь без удовольствия!
А может, проблема, в самом деле, была в Славке, может, его рождением она убила их любовь? Потому что Наташку — девчонку-Наташку — он любил до помутнения рассудка. А вот эту чужую, склочную, досмерти надоевшую суку, имя которой «жена», ненавидел.
— Твою мать, сволочь, я тебя ненавижу! — кричала она, покраснев одутловатым лицом. — Ты мне всю жизнь испортил! Десять лет гулял — я, дура, молчала! Сына тебе растила, идиотка!
Дебольский почувствовал острое, надсадное негодование, злобу, обиду, недовольство. Бушующую тесноту внутри.
А ему жадно, так нестерпимо, надсадно алчно хотелось любви. Зажить, почувствовать сладкий вкус на языке. Ощутить жаркое, взрывное, упоительное биение сердца, стук крови в висках. Соль во рту, чужой пот под сжатыми пальцами.
— Я что за тебя еще ребенка должен был растить? Я работал как проклятый! Кто тебя содержал?! Ты же сама ни на что не способна! — заорал он и в приступе ярости ударил по столу.
Наташка любила этот уродливый, нелепый, чудовищно пошлый сервиз с голубой каймой. Парадоксально дорогой, не стоящий уплаченных денег. Купленный Дебольским, потому что она ныла и ныла: «хочу-хочу-хочу».
Блюдце взвизгнуло, испуганно подпрыгнуло и с криком ужаса полетело на пол — разбилось вдребезги, надрывно вереща осколками фарфоровых костей.
Наташка глазами полными разбитого сердца проследила за его падением:
— Работал?! — и в неожиданном смехе взвизгнула, саданула истерика. — Ты что, думаешь, я не знала, что у тебя за работа такая?! Пьянки и бабы! Какой нормальный мужик будет сидеть на такой работе?!
Дебольского пощечиной хлестнула острая злоба унижения.
Он почти гордился своей работой, почти считал, что сделал карьеру! Он старался забыть о Сигизмундыче и тренинге без тренинга, унизительном пресмыкательстве, пошлости корпоративов, глупости его роли взрослого холуя. Ведь он ходил в дорогих костюмах и получал хорошие деньги, содержал жену и сына, имел машину.
В нем со всей силой раненого самолюбия всколыхнулась грязная пена.
— Так нехрен за меня цепляться?! Не нравится — давай разводиться! Никто не держит!
— Вот как! Как удобно, да?! — тонко испуганно вскрикнула она при звуке страшного слова. И вдруг, будто не своим голосом, исполненным какой-то не ее силы, колокольным набатом прошедшимся во внутренностях Дебольского, вскрикнула: — Пока было удобно — тебя все устраивало. А сейчас решил другую взять?! Помоложе и покрасивее?!